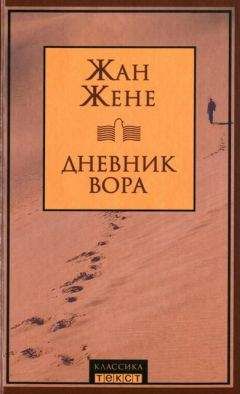Мне казалось, что ведающие законами боги не гневались, а находились в растерянности. Мне было стыдно. Но больше всего мне хотелось вернуться в страну, где свято чтут законы привычной морали, на которых зиждется жизнь. В Берлине я решил зарабатывать на жизнь проституцией. Несколько дней я был доволен, а затем мне это наскучило. Антверпен манил меня сказочными сокровищами, фламандскими музеями, еврейскими ювелирами, судовладельцами, гулявшими ночи напролет, пассажирами океанских лайнеров. Пылая страстью, я жаждал изведать со Стилитано опасные приключения. Казалось, что он тоже хочет предаться игре и ослепить меня своей храбростью. Однажды вечером он заехал за мной в отель на полицейском мотоцикле, управляя одной рукой.
— Я спер его у легавого, — сказал он с улыбкой, не соизволив слезть с мотоцикла.
Однако, поняв, что, сидя в седле, может своей позой свести меня с ума, он слез с мотоцикла, осмотрел для вида мотор и, усадив меня сзади, тронулся с места.
— Надо сразу избавиться от мотоцикла, — сказал он.
— Ты спятил. Можно провернуть кое-какие дела…
Разгоряченный ветром и быстрой ездой, я чувствовал себя вовлеченным в головокружительную погоню. Часом позже мы продали мотоцикл греческому моряку, который тотчас же погрузил его на судно. Это дало мне возможность увидеть Стилитано в настоящем деле, ибо продажа машины, торг и конечный расчет по хитрости не уступали самой краже.[23]
Как и я, Стилитано был не вполне взрослым. Он изображал из себя гангстера, не просто был им, но еще и разыгрывал соответствующую роль. Я не знаю ни одного вора, который в душе не был бы ребенком. Разве «серьезный» человек, проходя мимо ювелирного магазина или банка, станет не шутя, тщательно обдумывать план налета или ограбления? Откуда у него появится мысль о союзе, основанном не на корысти сообщников, а на взаимном согласии, родственной дружбе, как не из фантазии беспричинной игры, именуемой романтизмом? Стилитано играл. Ему нравилось быть вне закона, чувствовать себя под угрозой. Он стремился к этому из любви к эстетике. Он пытался копировать идеального героя, Стилитано, образ которого уже воззнесся на небо, осиянный славой. Таким образом, он подчинялся законам, предписанным ворам и создающим воров. Без них он был бы ничем. Пребывая поначалу в ослеплении от его сиятельного одиночества, спокойствия и безмятежности, я решил, что он сотворил себя сам, стихийно, ведомый лишь неосторожностью и дерзостью своих начинаний. Однако он искал образец. Может быть, его идеал был воплощен в победоносном герое детских журналов? Во всяком случае, легкая мечтательность Стилитано превосходно сочеталась с его мускулами и жаждой действия. Рисованный герой, безусловно, в конце концов вписался в сердце Стилитано. Я уважаю его еще и за это, ибо, хотя внешне он держался безупречно, его душа и тело были скованны — так, своей женщине он неизменно отказывал в нежности.
Мы стали видеться каждый день, не раскрываясь друг перед другом до конца. Я обедал у него в комнате, и по вечерам, когда Сильвия работала, мы ужинали вдвоем. Затем мы слонялись по барам, стараясь напиться. Кроме того, каждую ночь он танцевал с молодыми красотками. Как только он приходил, атмосфера в баре менялась — сперва у его стола, мало-помалу распространяясь дальше. Она становилась тяжелой и лихорадочной. Почти каждый вечер этот великолепный однорукий дикарь дрался, размахивая деревянным молотком, который он заранее вынимал из кармана. Докеры, моряки, сутенеры обступали нас плотным кольцом или приходили к нам на подмогу. Эта жизнь изнуряла меня, я предпочел бы бродить по набережным, в тумане и под дождем. В моей памяти эти ночи усеяны звездами. Один журналист написал по поводу какого-то фильма: «Любовь расцветает на поле брани». Эта дурацкая фраза как ни одна красивая речь напоминает мне о цветах под названием «львиный зев», растущих среди колючек, а они — мою бархатистую нежность, которую ущемлял Стилитано.
Иногда, когда он не поручал мне никаких дел, я крал велосипеды и продавал их в Голландии, в Маастрихте. Узнав, как ловко я перехожу границу, Стилитано отправился со мной в Амстердам. Город не вызвал у него интереса. Он велел мне ждать в кафе и ушел на несколько часов. Я знал, что его не следует ни о чем спрашивать. Его интересовала моя работа, а не наоборот. Вечером, когда мы пришли на вокзал, он вручил мне маленький перевязанный сверток толщиной с кирпич.
— Я сяду в поезд, — сказал он.
— А как же таможня?
— У меня все законно. Не волнуйся. Ты, как всегда, пойдешь пешком. Не раскрывай пакет, это для одного приятеля.
— А если меня сцапают?
— Не шути с этим, а то тебе не поздоровится, солнышко.
Умело опутывая меня своими гибельными чарами, в которых я вечно буду барахтаться, исполняя его прихоти, он ласково поцеловал меня и направился к поезду. Я провожал взглядом этот невозмутимый Рассудок, хранитель Свода законов, в чьей уверенной поступи, беспечности, почти безоблачном танце ягодиц чувствовалась непреклонная воля. Я не знал, что лежало в пакете, который был признаком доверия и удачи. Благодаря ему мне предстояло пересечь границу не ради своих жалких нужд, а по велению, по приказу августейшего Господина. Лишь только Стилитано скрылся из вида, как все мои помыслы устремились на его поиски, и сверток стал моей путеводной нитью. Во время моих походов (грабежей, разведок, побегов) вещи становились одушевленными. Ночь начиналась с заглавной буквы. В камнях, в придорожных булыжниках появлялся смысл, который вынуждал меня заявить о себе. Деревья шарахались при моем приближении. Мой страх назывался паникой. Дух каждой вещи, который только и ждал моей дрожи, чтобы прийти в волнение, он выпускал на свободу. Вокруг меня легко трепетал безжизненный мир. Даже с дождем я мог бы вести разговор. Вскоре я стал считать это чувство исключительным, предпочитая его тому, что его породило, — страху, а также причине страха — грабежам и бегству от полиции. Эта тревога, разгуливавшаяся по ночам, в конце концов смутила покой моих дней. Я очутился в загадочном мире, утратившем будничный смысл. Надо мной нависла угроза. Я уже расценивал вещи не соответственно их повседневному назначению, а в зависимости от дружелюбной тревоги, которую они мне внушали. Сверток Стилитано, покоившийся под рубашкой на моей груди, выдавал, еще более обрисовывал тайну каждой вещи, разгадывал ее с помощью блуждавшей на моих устах, обнажавшей зубы улыбки, на которую он разрешил мне отважиться, чтобы расчистить мой путь. А что, если я нес украденные драгоценности? Скольких хлопот полицейских, скольких усилий ищеек, полицейских собак, скольких секретных депеш стоил этот крошечный сверток? Стало быть, мне предстояло расстроить козни вражеских сил. Меня ждал Стилитано.
«Он изрядная сволочь, — говорил я себе. — Он старается не запачкать рук. Впрочем, это не оправдание, ведь у него только одна рука».
Придя в Антверпен, я направился прямиком к нему в гостиницу, даже не побрившись и не умывшись, ибо хотел явиться к нему в триумфальном ореоле щетины, грязи и усталости, от которой гудели ноги. Не так ли увенчивают героя лавром, осыпают цветами, украшают золотыми цепями? Я же ничем не прикрывал наготу победы.
Представ перед Стилитано в его доме, с наигранной непринужденностью я протянул ему сверток:
— Держи.
Он улыбнулся с торжествующим видом. Думаю, он знал, что причиной успеха была его власть надо мной.
— Все прошло гладко?
— Без сучка без задоринки. Это было легко.
— А!
Он снова улыбнулся и добавил: «Тем лучше». Я не решался ему сказать, что он тоже проделал бы этот путь без помех, уже понимая, что Стилитано — это плод моего воображения и в моих силах его уничтожить. При этом я знал, что Богу нужен ангел, называемый вестником, для определенных поручений, которые не по плечу ему самому.
— А что там внутри?
— «Травка», само собой.
Я пронес опиум, не забывая об этом.[24] Но я отнюдь не презирал Стилитано за то, что он подставил меня.
«Это нормально, — говорил я себе, — он сволочь, а я болван».
За то, что он так повел себя по отношению ко мне, я испытывал к нему благодарность. Если бы он совершил на моих глазах множество дерзких поступков без моего участия, став одновременно их причиной и целью, Стилитано утратил бы всякую власть надо мной. Втайне я считал, что он не способен всецело отдаться действию. Поблажки, которые он давал своему телу, были тому порукой: ванны, духи, мягкость очертаний его тела. Зная, что мне придется быть проводником его действий, я привязался к нему и не сомневался, что черпаю свою силу в примитивной сумбурной мощи, составлявшей его основу.
Тогдашнее время года (осень), дождь, пасмурный цвет построек, тяжеловесность фламандцев, своеобразный характер города, а также моя нищета, наводившая на меня уныние, — все эти явления, перед которыми я тушевался, породили во мне черную меланхолию. В пору немецкой оккупации я видел в кинохронике похороны ста — ста пятидесяти жертв бомбежки Антверпена. Усыпанные тюльпанами или далиями гробы, выставленные на руинах Антверпена, были похожи на цветочные лотки, перед которыми проходили с благословением толпы священников и церковных певчих в кружевных стихарях. Эта картина — последняя в моей памяти — наводит меня на мысль, что Антверпен открывал мне теневые стороны жизни. «Они отпевают город, — сказал я себе, — духом которого, как я догадался еще тогда, является Смерть». Между тем от одного лишь вида вещей все расплывалось в моих глазах, будто от страха. Затем нечеткость исчезла. Мое восприятие приобрело необыкновенную ясность. Когда же простейшие вещи утратили свой привычный смысл, я стал задаваться вопросом, правильно ли пить из стакана и надевать башмаки. Когда в каждой вещи открылось причудливое значение, мне было уже не до счета. Мало-помалу Стилитано начал терять неимоверную власть надо мной. Он считал меня рассеянным — я был внимательным. Я отсутствовал, даже когда говорил. Из-за сопоставлений, подсказанных мне вещами с несовместимым предназначением, моя речь принимала комичный характер.