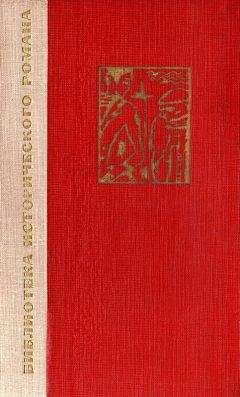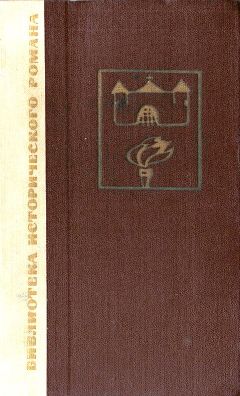— Благодарю тебя, боже, — прошептала мать, содрогаясь. — Это ты его спас! — И прибавила, готовя для перевязки кусок ткани, воду, уксус и перо цапли: — Еще бы чуть-чуть, и тебя убили бы, убили моего сына! Жандармы не думают о матерях!
— Ты скажешь соседям, что я упал с дерева; пусть никто не знает, что за мной гнались.
— А почему Криспин остался? — спросила Сиса, перевязав лоб сыну.
Он посмотрел на мать, обнял ее и рассказал по порядку историю с двумя унциями, но ни словом не обмолвился о побоях, которым подвергали брата.
Слезы сына смешались со слезами матери.
— Мой хороший Криспин! Обвинять моего доброго Криспина! Это потому, что мы бедные, а бедные должны все терпеть! — шептала Сиса, глядя полными слез глазами на лампу, в которой догорало масло.
Некоторое время они молчали.
— Ты ужинал? Нет еще? Вот рис и жареные сардины.
— Я не хочу есть; воды, дай мне воды, и больше ничего.
— Да, — произнесла печально мать, — я знала, что тебе не по вкусу вяленые сардины, я приготовила тебе другую еду, но приходил твой отец. Бедный сын мой!
— Отец приходил? — спросил Басилио и невольно взглянул на лицо и руки матери.
Сердце Сисы сжалось: она слишком хорошо поняла смысл вопроса и потому поспешила добавить:
— Приходил и расспрашивал про вас, хотел видеть своих сыновей, он был очень голоден. Сказал, что, если вы будете хорошо себя вести, он опять вернется к нам.
— Э, вздор! — прервал Басилио и досадливо скривил губы.
— Сынок! — упрекнула она.
— Извини, мама! — ответил мальчик серьезно. — Но разве не лучше нам жить втроем: ты, Криспин да я? Ты плачешь? Нет-нет, я беру свои слова обратно.
Сиса вздохнула.
— Значит, не будешь ужинать? Тогда ляжем спать, уже поздно.
Она заперла дверь хижины и засыпала угольки пеплом, чтобы не потухли. Так же поступаем мы со своими чувствами, чтобы не угасли они от повседневного общения с ближними: посыпаем их пеплом жизни, который называется равнодушием.
Басилио прочитал скороговоркой молитвы и лег возле матери; она молилась, преклонив колена.
Мальчика бросало то в жар, то в холод; закрыв глаза, он думал о своем братике, который мечтал, что будет спать этой ночью, прижавшись к материнской груди, а теперь, наверное, плачет и дрожит от страха в темной каморке монастыря. В ушах Басилио все еще звучали крики брата, раздававшиеся на колокольне, но постепенно усталость взяла верх, мысли стали путаться, и сон смежил его глаза.
Ему привиделась келья, где горели две свечи. Мрачный священник с лианой в руке слушает отца эконома, отвратительно гримасничающего и говорящего на каком-то странном языке. Криспин, дрожа и плача, озирается по сторонам, словно ищет защиты или хочет спрятаться. Но вот священник оборачивается к нему и начинает гневно допрашивать; лиана, свистя, рассекает воздух… Мальчик прячется за спину причетника, но тот хватает его и бросает к ногам разъяренного священника: несчастный ребенок отбивается руками и ногами, кричит, катается по полу, встает, бежит, спотыкается, снова падает, то закрывается от ударов руками, то с воем отдергивает их и прячет. Басилио видит, как он извивается, бьется головой об пол, видит и слышит, как свистит лиана! В порыве отчаяния малыш вдруг вскочил на ноги; обезумев от боли, он бросился на своих палачей и укусил священника за руку. Тот вскрикнул и выронил лиану; отец эконом схватил палку, ударил мальчика по голове, и Криспин свалился замертво. Увидев следы зубов на своей руке, священник стал бить ребенка ногами, но тот уже не защищался, не кричал: безжизненной массой лежал он на полу в луже крови…[90]
Голос Сисы вернул Басилио к действительности.
— Что с тобой? Отчего ты плачешь?
— Я видел сон… Боже мой! — воскликнул мальчик, приподымаясь, весь в холодном поту. — Это был сон. Мама, скажи, что это был сон, только сон!
— Что же тебе приснилось?
Басилио не ответил. Он сел и отер с лица слезы и пот. В хижине было совсем темно.
— Сон, это сон! — тихо повторял мальчик.
— Расскажи мне, что тебе приснилось. Иначе я не засну! — сказала мать, когда сын вновь лег.
— Мне… — начал он едва слышно, — мне приснилось, будто мы пошли собирать колосья… на поле росло много цветов… У женщин были корзины, полные колосьев… У мужчин тоже были корзины, полные колосьев… и у детей тоже… Дальше я не помню, мама, не могу вспомнить!
Сиса больше не расспрашивала сына, она не верила в сны.
— Мама, сегодня вечером я кое-что придумал, — сказал Басилио, немного помолчав.
— Что же? — спросила она.
Робкая со всеми, Сиса робела даже перед своими детьми; она считала их разумнее себя.
— Я уже не хочу быть служкой!
— Как же так?
— Послушай, мама, что мне пришло в голову. Сегодня приехал из Испании сын покойного дона Рафаэля, он такой же добрый, как и его отец. Так вот, мама, завтра ты возьмешь Криспина, заберешь мое жалованье и скажешь, что я не хочу быть служкой. Как только я поправлюсь, пойду к дону Крисостомо и попрошу, чтобы он взял меня пасти коров или буйволов; я ведь уже большой. Криспин сможет учиться у старого Тасио, — он не дерется, он добрый, хотя священник считает его дурным человеком. Чего нам бояться священника? Разве он может сделать нас беднее, чем мы есть? Поверь, мама, старик Тасио — хороший. Я часто видел его в церкви, когда там никого не было. Он становился на колени и молился, поверь мне. А я, мама, не буду служкой, нет. Платят там мало, да к тому же что получаешь, все уходит на взыскания. У других тоже так. Я стану пастухом, буду хорошо пасти коров, и хозяин меня полюбит. Может, нам позволят доить одну корову и брать молоко — Криспин так любит молоко! Кто знает, может, нам потом подарят телочку, если увидят, что я стараюсь. Мы за ней будем ходить и откормим, как нашу курицу. Я буду собирать в лесу плоды и продавать их в городе вместе с овощами с нашего огорода, и у нас будут деньги. Буду ставить силки и ловушки для птиц и зверей, ловить рыбу, а когда совсем вырасту, стану ходить на охоту. Я смогу и дров нарубить на продажу, а не то станем их дарить хозяину, и он будет доволен. Когда я научусь пахать, я попрошу у него кусочек земли, мы посадим сахарный тростник или маис, и тебе не надо будет шить до полуночи. К каждому празднику будем покупать новую одежду, будем есть мясо и крупную рыбу. Я буду жить на свободе, мы будем видеться каждый день и вместо обедать. Старый Тасио говорит, что у Криспина светлая голова. Мы пошлем его учиться в Манилу; а я стану зарабатывать деньги правда, мама? И он выучится на доктора, да?
— Разве я могу сказать «нет»? — ответила Сиса, обнимая мальчика.
Она заметила, что сын, говоря о будущем, даже не упомянул об отце, и тихо заплакала.
— Басилио продолжал говорить о своих планах с уверенностью молодости, которая видит только то, что хочет видеть. Сиса на все отвечала «да», все ей казалось прекрасным. Сон опять одолел усталого мальчика, и на этот раз Оле Лукойе, о котором нам поведал Андерсен, раскинул над ним свой чудесный зонтик, разрисованный веселыми картинками.
Басилио уже видел себя пастухом, рядом с братиком; они собирали гуайяву, альпай и другие лесные плоды, прыгали с ветки на ветку, легко, как бабочки; входили в гроты и смотрели на сверкающие стены; купались в источниках, где песок был из чистого золота и галька сверкала, как камешки в короне святой девы. Рыбки плясали и веселились вокруг, деревья протягивали детям свои ветви, увешанные фруктами и монетами. Потом ему привиделся колокол, висящий на дереве, и привязанная к нему длинная веревка, к другому концу веревки привязана корова, у которой на рогах свили гнездо птицы, а в колоколе сидит Криспин… Такие сны видел Басилио.
Но его мать не могла уснуть: ей было побольше лет и не довелось бежать целый час, спасаясь от преследования солдат.
Было часов семь утра, когда отец Сальви закончил последнюю мессу; в течение часа он успел отслужить три службы.
— Падре, наверное, болен, — говорили богомолки, — жесты его не так размеренны и красивы, как обычно.
Он сбросил с себя облачение, не вымолвив ни слова, ни на кого не глядя, не сделав ни единого замечания.
— Тише! — шушукались служки. — Он гневается! Теперь денежные взыскания градом посыплются, и все из-за этих двух мальчишек!
Священник спустился из ризницы в прихожую, служившую школой; там его поджидали, сидя на скамьях, семь или восемь женщин и один мужчина, который расхаживал из угла в угол. При виде священника все встали, а одна женщина поспешила было вперед, чтобы поцеловать его руку, но святой отец отмахнулся от нее с таким нетерпением, что она застыла на месте.
— Верно, он потерял реал, этот скупец! — насмешливо воскликнула женщина, оскорбленная таким невниманием. Не дать приложиться к руке ей, надзирательнице братства, самой сестре Руфе! Это было неслыханно.