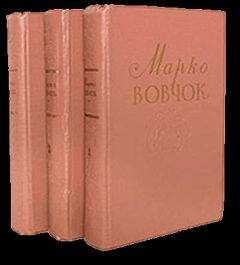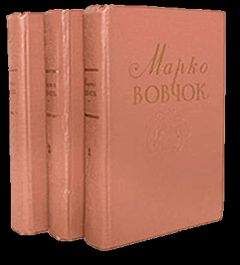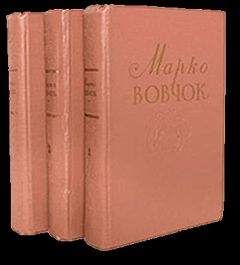— Господи благослови! — проговорил отец Андрей, простирая над ним руку и осеняя его крестным знамением.
Затем он спросил пономаря:
— Что, все благополучно?
И потрепал его по плечу. Отец между тем суетился.
— Садитесь, отец Андрей, садитесь! — бормотал он. — Милости просим! Уж как обрадовали своим посещением!.. Несказанно… несказанно…
— Спасибо, отец дьякон, спасибо! — говорил отец Андрей, разваливаясь на ветхом отцовском кресле. — Ты перестань суетиться — садись! Вот тут садись, против меня!
Отец сел, но как бы на шипы; он вскрикнул:
— Не угодно чего, отец Андрей? Может, водочки выкушаете?
И вскочил.
— Нет, нет, — сядь! Сядь, говорят тебе! Ведь сам знаешь, меня уж угостили у отца Еремея. Сядь!
Отец сел.
— И ты сядь! — сказал отец Андрей пономарю.
Пономарь умиленно проговорил:
— Много милости, отец Андрей! Я…
— Ничего! — перебил его отец Андрей. — Сядь!
Пономарь сел.
Я, притаившись в уголке, за кадушкой, с изумлением глядел на отца Андрея. Он здесь, в нашей убогой хижине, совсем был не тот — даже совсем не похож был на того отца Андрея, что я видел поутру в лесу; даже мало напоминал того отца Андрея, что я только что видел, пять минут тому назад, на крылечке отца Еремея. Не говоря уже о том, что голос его сделался на несколько нот выше, что выражение лица, так сказать, облагородилось, что манеры были развязнее, увереннее, но он даже как бы в объеме увеличился, пополнел, повышал — совсем другой отец Андрей!
— Ну, что ж, как вы поживаете? — спросил отец Андрей.
— Слава богу! слава богу! — отвечал отец.
— Слава творцу всевышнему! — прибавил пономарь.
— А слухи-то ходят нехорошие, — и туда дошли! — сказал отец Андрей.
Отец пробормотал:
— Уж не знаю! уж не знаю!
А пономарь воскликнул:
— Ах, господи, творец мой милосердный! какие ж это такие слухи, батюшка?
— А такие слухи, что у вас неладица, распри, соблазны! И там на это очень косо смотрят!
Отец весь съежился и снова прошептал:
— Уж не знаю! Уж не знаю!
А пономарь испустил глубокий вздох, как бы сокрушаясь, и сказал со смирением:
— Мы блюдем себя, как можем, батюшка.
— То-то и есть, что не блюдете! — возразил отец Андрей. — Вы думаете, все шито и крыто? Вы забыли, что сказано в евангелии: несть бо тайно, яже не явлено будет, ниже утаено, яже не познается и в явление приидет! Известно, чью вы руку тянете!
Не только пугливый отец мой помертвел, но и изворотливый пономарь весь исказился страхом.
— Их воля! их воля! — пробормотал отец.
— Господь видит мое сердце, — жалобно затянул пономарь. — Господь…
— Надо вам дело поправить, — перебил отец Андрей, — а то плохо придется!
— Воля их! Воля их! — бормотал отец.
— Как же поправить, батюшка? Научите! — стал молить пономарь. — Я ничего за собою не знаю… ни в чем не виноват…
— Ладно, ладно! Только вы, невиноватые, коли этого дела не поправите, — оказал отец Андрей, — так то вам будет, чего и язычнику не пожелаешь. Там шутить не любят!
— Как же поправить, батюшка? — спросил пономарь жалобным тоном.
Отец тоже как бы с вопрошанием обратил глаза на отца Андрея.
Отец Андрей подумал, погладил бородку и ответил:
— Отстранитесь от него и от всех его дел.
— Отстраняемся! — воскликнул пономарь, — отстраняемся!
Отец ничего не сказал, но сомненья не было, что он тоже не замедлит отступиться.
— Ну, и подпишите бумагу… Вот видите ли, оттуда запрос прислан отцу Еремею, — я сам и привез этот запрос, — ну, вы и покажите, каков он человек.
Пономарь вздохнул и с покорностью ответил:
— Показать надо; совесть велит показать!
Отец было приподнялся, как бы хотел что-то вымолвить, но остался безмолвным и снова сел.
— А ты что скажешь, отец дьякон? — спросил отец Андрей.
Отец только отчаянно, беспомощно развел руками.
— Ну и прекрасно! — сказал отец Андрей. — И откладывать нечего! Пойдем подписывать!
Пономарь быстро вскочил с готовностью следовать за отцом Андреем, но отец оставался на месте, как бы пригвожденный.
Отец Андрей взял его за руку, приподнял и повел, говоря ему ободряющим голосом:
— Двигайся, отец дьякон, двигайся!
Они направились ко двору отца Еремея. Я только смутно понимал, что готовится. В смятенье я крикнул вслед отцу:
— Батюшка! Батюшка!
Отец остановился, как бы пораженный громом.
— Что такое? — спросил строго отец Андрей, обращаясь ко мне.
Я же подбежал к отцу, ухватился за его полу и глядел ему в глаза.
— Что такое? — еще строже повторил отец Андрей. — Пусти!
Он схватил меня за руки своими маленькими, но крепкими, как железо, перстами и так стиснул, что я принужден был выпустить полу.
— Поди, поди! — сказал он мне.
Хотя он говорил тихо, но в голосе его звучала нешуточная угроза.
И так как я все-таки упорствовал и тщился снова ухватить отца за полу, он оттолкнул меня и приказал пономарю:
— Придержи его! Оттащи!
Пономарь кинулся на меня.
— Оставь его! Оставь! — проговорил слабо отец. — Оставь! Тимош, ступай домой!
— Иди, иди, дурак, домой! — шипел пономарь. — Иди, а не то за чуб отведут!
И я понимал, что, точно, поупорствуй я еще, отведут за чуб.
Почувствовав свое бессилие, я стал проливать слезы.
— Не плачь, Тимош! — слабо крикнул мне отец. — Не плачь! Я вот сейчас…
Он не договорил. Отец, Андрей быстро его увлек на попов двор.
Несколько мгновений я оставался как бы ошеломленный некиим ударом обуха, но оправившись, быстро скользнул к попову забору.
Ни отца моего, ни пономаря, ни отца Андрея я уже не увидал на крылечке; отца Еремея тоже не было,
Михаил Михаилович говорил Нениле:
— Пойдемте в сад гулять! Сжальтесь надо мной, пойдемте в сад гулять!
Ненила же, ухмыляясь, отворачивалась, пылала и опускала глаза в землю.
— Уж это не по закону! — сказала ему Македонская медовым голосом. — У нас девицы не ходят гулять одни с молодыми кавалерами! Уж это не по закону!
— Что ж мне законы? — возразил ей Михаил Михаилович. — Что ж мне законы? Это для иных, для прочих законы, а я могу без законов!
И, снова обращаясь к Нениле, он стал просить:
— Пойдемте в сад гулять! Сжальтесь надо мной!
А Ненила все пылает, отворачивается и ухмыляется. Михаил Михаилович обращается к Македонской:
— Маменька! Прикажите нам идти гулять в сад!
— Да не по закону!
— Да ведь я вам говорю, что я могу и без законов!
— Ну, идите, бог с вами! И Настя с вами пойдет… Где это Настя запропастилась!
И Македонская начала кликать:
— Настя! Настя!
Я кинулся бежать на паперть.
Я, можно оказать, не перебежал, а перелетел это пространство, пробрался в вишенник — в вишеннике никого нет.
Я, тихонько окликая, исходил его весь вдоль и поперек, — никого нет.
Я остановился в недоумении и смятении, а затем медленными шагами снова возвратился к попову двору.
Пономарь бежал трусливой рысцой, как выстеганный лозою кот, к своему жилищу; отец мой, шатаясь, поспешал к своему. Отец Еремей с отцом Андреем сидели на крылечке, — отец Андрей, снова приняв свой настоящий вид и снова, так оказать, войдя в свои берега, несколько изогнув стан и склонив голову набок, с улыбками что-то шептал; отец же Еремей, внимая клеврету своему, сидел, несколько раскинувшись, в кресле, сложив руки на коленях, как бы упоенный чем-то несказанно сладким, и созерцал твердь небесную. Фигуры Михаила Михаиловича и Ненилы мелькали вдали, в садике, и можно было различить, как Михаил Михаилович, сорвав цветок,[10] с нежностию обращался к Нениле, а Ненила слегка отворачивалась и ухмылялась, обмахиваясь в смущении и сердечном веселии носовым платком. Иерейша, стоя у ворот, тихим, но свирепым голосом спрашивала у Лизаветы отчета в каких-то бутылках.
Увидав меня, иерейша крикнула:
— Остановись! Куда бежишь как угорелый? Не видал Насти? Ну, чего ж оторопел? Чего вытаращился? Русским языком тебя спрашивают: не видал Настю?
— Не видал! — ответил я заикаясь.
— Это, видно, опять в лес изволила загнаться! Лизавета! пошли Прохора…
— Я ее видел! — поспешно прервал я, испуганный, — я ее видел!
— У, чертенок! чего ж ты путаешь? Где видел?
— Там… там…
И в смущении я простирал руку, указывая то в ту сторону, то в другую.
— Где? пропасти на тебя нету! Где? Чего ты давишься? Краденым, что ль, обожрался?
— Она на село пошла, — проговорил я решительно.
— На село? зачем это ей на село? Что ты, бестия, брешешь!
— На село пошла! — упорствовал я. — Я сам… я сам видел, как на село пошла… туда, к Захарову лану… на Захаров лан…