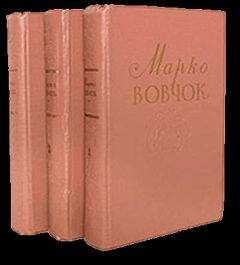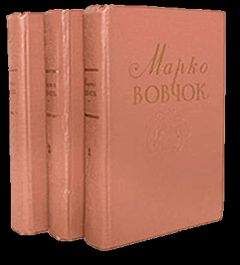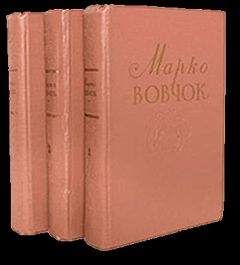— Ну, погоди! Дам я ей село! Дам я ей село! Прохор!
Я поспешно предложил свои услуги.
— Сходить за нею? — трепетно вопросил я.
— Сходи! Да ты у меня гляди: чтоб одна нога тут была, а другая там! Беги!
Я пустился во весь дух по направлению к селу, но, достигнув огородов, повернул налево, перепрыгнул через плетень и осторожно, ползком пробрался домой.
Отец лежал ничком на лавке.
Я его окликнул.
Он вскочил, поглядел на меня, слабо проговорил: "Иди, Тимош, иди! поиграй… поиграй…" — и снова лег ничком на лавку.
Он был бледен, как мел, весь дрожал и тихо стонал, как бы мучимый каким-то жестоким недугом.
Я подошел к нему и только что отверз уста, как он снова вскочил, оттолкнул меня и вскрикнул:
— Я сказал тебе: иди! Что ж ты… что ж ты… отца… отца не слушаешься! это… грех… грех…
Дребезжащий его голос прервался; он кашлял и задыхался.
— Где мама? — спросил я.
— Не знаю! Не знаю! Иди… отца слушай…ся… грех… грех…
Он не договорил и снова кинулся ничком на лавку. Я не отступил и слегка дотронулся до его плеча. Он снова вскочил и, как бы обезумев, громко, пронзительно закричал:
— Что ж ты не идешь? Отца… отца не слуша… Я… караул… буду крича… Что… ж… иди!
Он не договаривал слов, и весь трясся, и в смертной тоске стискивал свои слабые кулаки.
Опасаясь, что с попова двора услышат его вопли, я выбежал из дому.
Сообразив, что Настя должна находиться у Волчьего Верха, я туда направил стопы свои.
Но не успел я достигнуть опушки леса, как, оглянувшись, увидал, что Настя уже подходит к своему двору.
Она прошла мимо, всего в трех-четырех шагах от меня, но меня, тихо и отчаянно взывающего к ней из бурьяна, не услыхала.
Она шла очень быстро; в лице ее не было ни кровинки, но глаза ее изумительно блестели.
— Где ты пропадала? — раздался голос иерейши.
— Я в лесу была, — отвечала Настя.
Голос ее, всегда сладостный и звучный, был теперь еще звучней и сладостней обыкновенного, и не слышалось в нем ни малейшей тревоги, никакого трепета.
Я ринулся разыскивать Софрония.
Я сбегал в Волчий Верх, я проникал в Белый Яр, в березняк, — я исследовал весь лес, останавливаясь на каждом шагу, прислушиваясь, окликал Софрония то тихим, то громким голосом; я два раза возвращался к его жилищу и, находя двери замкнутыми, постукивал в его окошечко, — я его не обретал. Наконец, снова отправясь к Большому Яру, я встретил деревенского мальчика Кондрата, известного птицелова, в праздничное время всегда бродящего по лесу, и спросил его, не кидал ли он Софрония.
— Видел, — отвечал Кондрат.
— Где? — вскрикнул я. — Где?
— В дубнячке. Они шли с Грицком в Болиголово.
— В Болиголово! — вскрикнул я.
— Да, в Болиголово, — повторил Кондрат. — Зачем?
Вопрос этот вырвался у меня прежде, чем я успел сообразить его неуместность.
— Не знаю, зачем, — отвечал Кондрат. — Должно быть, в гости. У Грицка там родня — сестра туда замуж отдана.
У меня мелькнула мысль, не бежать ли мне к нему в Болиголово.
Болиголово было всего верстах в двух, в трех от Тернов.
Кондрат продолжал:
— А вы свою поповну замуж отдаете?
— Отдаем, — отвечал я.
Он поглядел на меня, слегка прищуриваясь своими черными пытливыми глазами, как бы желая еще что-то спросить, но не спросил ничего более, а свел разговор на птицеловство.
— Как нынче летом лову мало! — говорит.
А вслед за тем кивнул мне головой в знак прощанья и скрылся в чаще.
Я уже направился в Болиголово, как вдруг до моего уха долетел благовест к вечерне.
Софроний должен быть у вечерни! Значит, он уже возвратился из Болиголова!
И я снова поспешил обратно к дому.
Бежать я уже не мог, ибо ноги мои с трудом передвигались.
Когда я добрался до дому, вечерня уже отошла, и я тут тлько заметил, что уже наступали сумерки.
— Тимош! Тимош! — услыхал я. Это мать меня кликала.
Я радостно вздрогнул, забыл свою крайнюю усталость и побежал на этот зов.
— Где ты целый день был, Тимош? — спросила мать. — Я хотела тебя с собой к Усте взять, да нигде тебя не нашла. Что, небось голоден? Вот тебе Устя пирожок прислала, — на!
Она подала мне пирожок с маком, — пирожок, предпочитаемый мною всем прочим пирожкам.
Но я только взял его, машинально оглядел и положил на стол.
— Мама, — сказал я, — отец ходил к батюшке, подписывал там бумагу!
— Какую бумагу? Какую бумагу?
Она встала с лавки, опять села, привлекла меня к себе и проговорила:
— Расскажи все! Все расскажи с начала!
Я ей все рассказал.
Она провела рукой по лбу, подумала; потом оказала мне:
— Посиди тут, Тимош, я сейчас приду.
Но я начал пламенно ее молить, да позволит за ней следовать, и, уцепясь за полы ее одежд, заклинал не повергать меня в отчаяние.
— Ну, хорошо! — проговорила она, — иди, только не говори никому, куда мы ходили.
Она взяла меня за руку, и мы пошли огородами.
— Мы куда? — спросил я.
— К Софронию, — отвечала она.
— Лучше вот тут пройдем, — тут ближе, — сказал я.
— Где? Увидят…
— Нет, не увидят! не увидят!
Я кинулся вперед и провел ее своими тайными ходами, — через лазейки и перекопы, благополучно.
У Софрония было темно и тихо. Мы постучались.
— Верно, его дома нет! — проговорил я с тоскою. Мать ничего мне не ответила и снова постучалась. Софроний появился на пороге.
Он пристально поглядел на нас и спросил:
— Что случилось?
— На вас донос! — прошептала моя мать. — Нынче…
— Войдите, — перебил он, отворяя двери в хату. Мы вошли.
Мать рассказала ему все слышанное от меня.
Софроний молча внимал ей. Он ни разу не дрогнул, не встрепенулся, и, сколько я мог видеть в полутьме сумерек, лицо его оставалось спокойно.
— Что ж вы будете делать? — спросила мать, окончив рассказ.
— Что ж делать? — ответил он. — Делать нечего.
— А вы бы попробовали… вы бы… сами написали… вы бы…
Слезы начинали ее душить. Она в отчаянии сплеснула руками и умолкла.
— Тут делать нечего, я знаю, — сказал Софроний.
Мать заплакала и проговорила:
— Ах, не так вам надо было обходиться! Не так! Вы сами себя головой выдали! Вы не сдержали сердца!
— Кабы на коня не спотычка, так ему бы и цены не было! — ответил на это Софроний с горькой усмешкой.
— Что ж теперь будет?
Он не ответил на это, а вместо ответа сказал:
— Спасибо вам!
Затем он погладил меня по голове и прибавил:
— Сын-то в вас: надежный друг!
Мать тихонько зарыдала, и мы от него ушли.
— Мама, — спросил я, — что с ним сделают?
— Не плачь, Тимош! — ответила она, — и никому не говори…
— Что с ним сделают? — настаивал я с отчаяньем.
— Я не знаю…
— Знаешь! — вскрикнул я, заливаясь слезами.
— Не знаю!.. Может, ушлют от нас… Тише, Тимош, тише, голубчик! Услышат…
Пришед домой, я совершенно изнемог, взобрался на постель и лежал неподвижно; слезы мои остановились, и я как-то отупел ко всему.
Мать неоднократно подходила ко мне и целовала меня, но я не в силах был ни пошевелиться, ни открыть глаз.
Наконец она, вероятно, приняла меня за спящего, ибо я слышал, как она прошептала надо мной:
— Спи! спи!
Осенила меня крестным знамением и вышла.
Я не знаю, долго ли я лежал в помянутом тупом забытьи. Когда я пришел в более нормальное состояние и открыл глаза, месяц уже ярко сиял с пространных небес; мать, склонив голову на руки, сидела на пороге, а с попового двора неслись звуки бубенчиков и раздавался зычный голос Михаила Михаиловича, восклицающий:
— Да ведь это для прочих законы! А для меня какие законы? Я и без законов могу!
И вдруг, переходя в нежный тон:
— Ах, как вы жестоки, Ненила Еремеевна! Ах, сжальтесь надо мной, над страдальцем!
Я уже снова начинал забываться под эти звуки, вежды мои уж смыкались; вдруг стукнули наши двери. Я открыл глаза и увидал, как мать быстро вошла, бросилась на свое ложе и там словно замерла.
Едва она успела лечь, дверь осторожно, робко приотворилась, и вошел отец. Он было возвестил свой приход обычным тихим кашлем, но, кашлянув раз, тотчас же спохватился и зажал себе рот. Месячные лучи, падавшие в окно, ярко освещали его огорченное сморщенное лицо и всю его хилую, жалкую фигурку.
Подавив свой кашель, он прислушался и тихонько, каким-то молящим голосом окликнул:
— Спите вы?
Мать не ответила. Я тоже.
Он долго прислушивался, потом прошептал:
— Спят, спят! О господи, боже мой!
Он присел у окна и долго сидел, подобный каменному изваянию.
Я никогда в жизнь свою, ни прежде, ни после, не видывал ничего жалче и вместе возмутительнее этой беспомощной, пришибленной, бессильной фигуры.