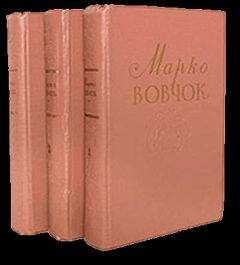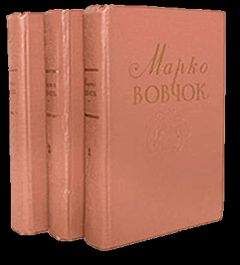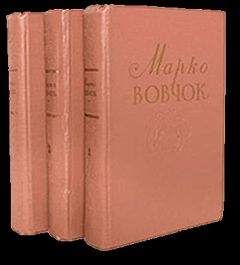Я никогда в жизнь свою, ни прежде, ни после, не видывал ничего жалче и вместе возмутительнее этой беспомощной, пришибленной, бессильной фигуры.
Бубенчики на поповом дворе зазвенели сильнее, громко раздалось троекратное восклицание Михаила Михаиловича:
— Ах! Я теперь блажен! Я теперь блажен!
Затем затопали кони, застучали колеса, пролетела тройка, за этой тройкой другая — и все смолкло.
"Кто же это еще поехал? — думал я. — Или это мне показалось, что две тройки?"
Едва успел смолкнуть топот конских копыт, как раздался топот человеческих ног, и пономарь, подбегая под наше окошечко, кричал — как он один умел кричать — как-то под сурдинкой, так что это был крик и шепот в одно и то же время, — он кричал:
— Отец дьякон! отец дьякон!
— Что? Тише! Тише! — шептал в ответ отец, высовываясь из окошечка, — тише!
— Всех увез?
— Кого всех? Как всех?
— Так всех! И самого, и самую, и невесту! "Не могу, говорит, прожить без нее и часу одного, — поедем со мной!" Они уговаривать, упрашивать — куды! не слушает, а потом сердиться уж начал. "Что, говорит, мне законы? Это, говорит, для прочих законы, а я, говорит, и без законов могу! Хочу, говорит, чтоб свадьба была в городе, да и конец!" Помилуйте, сделайте божескую милость, просят, ведь я приданое еще не готово! "А что мне, говорит, ваше приданое? Мне на ваше приданое плевать! А коли, говорит, вы меня не уважите, так я, говорит, вам отплачу!" Так и увез. Да как уж расходился, так и Настю и Лизавету, говорит, берите, и пономаря берите! "Пускай, говорит, дорогой песни нам поют". Ну, это страшный человек, я вам скажу! Самовластительный человек!
— Тише! — говорил отец. — Тише! Погоди, я лучше к тебе выйду…
Он на цыпочках вышел из светлицы.
Я тотчас спрыгнул с своего ложа и стал красться к дверям.
Прокрадываясь мимо матери, я вдруг почувствовал, что меня тихонько придерживают.
— Тимош! — прошептала мать, — куда ты?
— Я к Насте, — отвечал я. — Настя дома осталась…
— Нет, ты не ходи теперь к Насте, ты лучше теперь ко мне поди!
Она привлекла меня к себе.
В голосе ее было что-то такое, ясно давшее мне понять, что к Насте ходить теперь не следует.
К тому же я так был утомлен душевно и телесно, что, едва стоя на ногах, едва мог соображать самые простые вещи.
Я лег около нее, прильнул головой к родной груди и в ту же минуту начал забываться сном.
Сквозь сон я еще слышал восклицания пономаря, долетавшие со двора в открытое окошечко:
— Самовластительный человек! самовластительный человек!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Десница божия
На другой день после вышеописанных смотрин меня пробудили от она сладостные звуки милого мне голоса.
Открыв глаза, я увидал Настю. Она, повидимому, прощалась.
— Я уж к вам не приду, — говорила Настя, — не хочу накликать на вас беду.
Изумленный и обрадованный, я быстро приподнялся, подушка выскользнула из-под меня и упала на пол. Настя оглянулась.
— А! — сказала она с своею пленительною улыбкою. — Пора проснуться, пора.
И, пригнувшись, поцеловала меня.
— Так вы уж и порешили? — спросила мать.
— Порешили, — отвечала Настя.
Мать хотела что-то сказать еще, но ничего не сказала, только вздохнула.
Настя, вероятно, уразумела смысл этого вздоха, потому что ответила:
— Я знаю, все знаю. И на все иду.
— И я так-то говорила, и я на все шла, что ж я этим взяла? — возразила мать.
— И я, может, ничего не возьму, — ответила Настя. — Что ж! пусть я и ничего не возьму, — я все-таки жалеть не стану!
— Тяжело терпеть целый век!
— Я не боюсь!
И с этим словом она скрылась.
— Мама! — кликнул я.
— Что, Тимош?
— Настя знает?
— Про что?
— Про бумагу?
— Знает… Ты забудь про эту бумагу, Тимош…
— Что ж, она плакала?
— Не знаю… забудь ты, голубчик… не думай…
Вошел отец, и мы замолчали.
— А я уж на мельницу съездил, — сказал он дрожащим заискивающим голосом. — Чуть свет нынче встал… и поехал… Ну, и был на мельнице… смолол…
Он говорил это, глядя то в тот, то в другой угол; потом он кинул быстрый взгляд на мать и на меня, лицо его все покраснело, и он поспешно вышел из дому.
Я взглянул на мать и вспомнил ее недавние, сказанные Насте, слова: "Тяжело терпеть целый век!"
Я спросил ее:
— Ничего не надо говорить отцу?
— Не надо! — ответила она с живостию. — Не надо… зачем?.. Не говори ничего…
— Не скажу…
— Да ты забудь про все про это, Тимош, забудь, милый!.. Все это… все это не стоит помнить…
— Я этого не могу забыть, — отвечал я: — я как на него гляну, так сейчас все вспомню!
— Ты забудь, забудь! — повторила она еще раз, целуя меня с тоскою и смятением.
"А ты забудешь?" — хотел я спросить. Но она, как бы угадав этот мой вопрос, поспешно прибавила:
— Полно об этом толковать, Тимош! Ты лучше вставай скорей да одевайся, — гляди, каково на дворе хорошо!
И вслед за тем она вышла и занялась работой в огороде.
На дворе, точно, было хорошо, и я, дохнув живительным воздухом, как бы почувствовал облегчение своему сердцу; как бы некая надежда, некое упование блеснули вдали.
"Так хорошо везде! — подумал я: — и вдруг его увезут!"
И в эту минуту мне показалась всякая беда невозможною, всякое горе немыслимым.
В особенности же показались мне беда невозможна, а горе немыслимо, когда я, считая позволительным не противиться душевному влечению, вошел в хату Софрония и увидал его там с Настею.
Я сам не мог себе уяснить тогда, что именно меня поразило, но, вошед, я остался поражен и почувствовал, что тут все, что может жизнь дать человеку для его личного счастия.
Когда я отворил двери, они не сразу услыхали мой приход. Они сидели у стола и говорили. Возмогу ли передать выраженья их лиц? В них не было ликованья; глаза, правда, изумительно блестели, но не разбегались во все стороны, не прыгали, не искрились, уста не улыбались, — но они дышали такою жизнию, что, глядя на них, вчуже пробирала дрожь и захватывало дыханье.
Эта темная хатка, и она даже преобразилась: казалось, по ней ходят какие-то лучи, какое-то сияние…
Я услыхал последние слова из ответа Насти:
— …будет. На добре передачи нет: какая плата дорогая ни будет, — не пожалеешь.
Тут они увидали меня, и оба встретили меня приветливо.
Но я, невзирая на детское несмыслие и пламенное желанье насладиться их присутствием, тотчас же ушел.
"Буду ли я когда-либо так с кем-либо разговаривать?" — думал я с грустию.
Я вдруг уразумел с отличною ясностию, что тройной неразрывный союз, о коем я мечтал и коего я жаждал, несбыточен, что они друг для друга все, а я для них — ничего.
Такое прозрение нимало не убавило и не охладило моей им преданности, но оно исполнило меня смирением и тихой грустью.
"Когда они вместе, я не буду к ним подходить, — думал я со вздохом: — а буду подходить, когда они в одиночку. Вместе им без меня хорошо… лучше… так подходить тогда не надо"…
И от этой мысли я переходил к другой:
"Будет когда-нибудь, в далеком будущем, кто-нибудь, с кем я буду так говорить, как они говорят друг с другом? И с кем я ничего на свете не буду страшиться?"
Прошло три дня, прошло четыре; отец Еремей с супругою не возвращались.
— Пируют! пируют! — говорил пономарь, попрежнему забегавший к отцу.
Пономарь не мог не уразуметь, что мать моя избегает его присутствия и гнушается им, но пономарь уподоблялся известному в народной сказке ярмарочному псу: он похищал у мясника кусок мяса, глотал его где-нибудь в уголку, а затем являлся снова у прилавка, и весело вилял хвостом, и глядел на мясника ясными глазами, и шаловливо подергивал его зубами за полы, и клал ему лапы на плеча.
Подобно, помянутому ярмарочному псу, пономарь весело спрашивал мою мать, встречаясь с нею:
— Как вы в своем здравии, Катерина Ивановна?
И глядел на нее ясными глазами.
И встретясь с Софронием, он тоже кричал ему:
— Здорово, Софроний Васильевич! Денек-то благодатный какой!
Но я заметил, он близко к Софронию не подходил, и вообще, когда представлялась возможность юркнуть в сторону и не встретиться, он ею пользовался.
Отец мой стал жаловаться на боль в пояснице и почти по целым дням лежал на лавке, прикрыв лицо полотенцем и тихо стеная и охая.
Настю и Софрония я видал только издали, мельком; я знал, что они неразлучны, что даже вместе ходили в гости к Грицку на село.
Этот последний факт сообщила матери Лизавета в моем присутствии.
Мать ничего не ответила, но Лизавета, как бы угадывая, какое должно быть на это возражение, сказала:
— Что ж! пусть их отпоют, сколько голосу хватит! Что ж! семи смертей не бывать, одной не миновать.