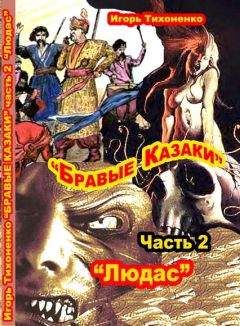От потока нахлынувших соображений у Васариса ум за разум зашел. Что это — materia gravis или levis?[58] Если levis per se[59], то может gravis per accidens[60] или ex circumstantiis[61], либо наоборот? И кто была Кайя? Девушка, замужняя или монахиня? А этот Кай?.. Какой это был поцелуй? Нет, такого вопроса задавать не следует, а то еще введешь в соблазн исповедующегося… Да было ли вообще наличие греха? Три условия тягчайшего греха: cognitio intellectus, deliberatio voluntatis, liberus consensus…[62]
— Сперва надо узнать, — начал Васарис, — была ли здесь materia gravis или levis…
_ Что?! — воскликнул профессор, — ты так ему и скажешь на исповеди? Практически подходи! Osculavi Caiam. Ну?
Пока Васарис отыскивал первый подходящий вопрос, профессор нетерпеливо топал ногой:
— Ну-ну-ну!.. Pytaj, pytaj, pytaj!..[63] Osculavi Caiam… Ну?
— Кто была Кайя? — наконец осмелился спросить «исповедник».
— Моя кухарка! Да, моя кухарка.
«Плохо! — подумал Васарис. — Если уж кухарка, наверное, это будет materia gravis. Казус осложняется».
— Почему ты ее поцеловал? — продолжал он задавать вопросы.
— Почему?.. Ну, потому что испекла хорошие блины. Вкусные блины были.
«Слава богу! — подумал Васарис, — osculum non ex libidine nullum peccatum[64]. Казус разрешен».
— В таком случае никакого греха не было, — дерзнул сказать он вслух.
Но профессор подпрыгнул, как ужаленный:
— Да? Ты думаешь, что после хороших блинов и согрешить нельзя? Не давай исповедующемуся ввести тебя в заблуждение! О чем еще должен спросить?
Васарис вспомнил, что иные, исповедуясь в грехах подобного рода, порой пытаются смягчить их: выдвигают какое-нибудь невинное обстоятельство, прибегают к двусмысленным выражениям или многое утаивают. Он тут же поправился:
— Ты ее целовал только за блины?
— О, нет, не только… Потому что Кайя красивая… Мне очень нравится.
— А больше ничего не было? Только поцелуи? — продолжал расспрашивать осмелевший «исповедник».
— Да, было и другое, духовный отец!..
«Пропал! — подумал злосчастный семинарист. — Он все более усложняет казус».
— Что же еще было? — спросил он в отчаянии.
— Тяжко согрешил, отче, против целомудрия…
— Сколько раз?
— Не помню.
— Как часто это бывало?
— Еженедельно, нет, чаще…
Долго еще профессор гонял Васариса по всему трактату, пока звонок не оборвал разбор этого нескончаемого казуса.
На старших курсах разбирались еще более трудные казусы. Оказывается, что о характере иных грехов или об их тяжести спорили самые авторитетные богословы. Мнение одних считали sententia probabilis[65], других — sententia probabilior[66]. В некоторых случаях было дозволено следовать probabilem sententiam, в других советовалось tutiorem partem sequendam esse[67].
Позднее они привыкли и к нравственному богословию, как и ко всему остальному, и смотрели на него отчасти, как на обязательный предмет, а отчасти, как на один из тех пунктов семинарской программы, который по окончании можно будет предать забвению. Если же они так и не думали, то на практике все равно так получалось. Через пять лет священства ксендз чаще всего руководствуется на исповеди «здравым смыслом», не оглядываясь ни на probabilem, ни на probabiliorem, ни на ullam aliam sententiam[68].
Но в первом семестре третьего курса нравственное богословие преследовало их, словно какой-то кошмар. Оно вызывало столько странных суждений, жутких комментариев и выводов! Одних делало слишком требовательными, других — слишком снисходительными.
— Не кажется ли вам, — сказал однажды Васарис своим однокурсникам, — что тяжкий грех совершить не так уж легко. Ведь сколько разных условий ставит богословие.
— Ну, нет, — возразил Балсялис. — Все эти условия очень легко выполнить. Каждый наш поступок нам ясен, в любом из них мы вольны и совершаем его без какого бы то ни было принуждения. Если же он будет in materia gravi, вот тебе и тяжелый грех.
— А я думаю, что человек, совершающий проступок, колеблется, боится, сопротивляется, а если уж совершит его, то словно подчиняясь необходимости, — философствовал Васарис. — Вот тебе и не будет liberus consensus, а значит, и peccatum mortale[69].
— Значит, по-твоему, и убийца, идущий на разбой, может не располагать liberus consensus?
— А разве ты можешь заглянуть в душу убийце или проникнуть в чью-нибудь совесть и узнать, почему он совершил поступок? Может быть, он и сам не знает, почему. Я, например, где-то читал, что на суде теперь это учитывается.
Подобные споры продолжались долго. Однажды после долгих пререканий скептик Касайтис напомнил им анекдот о вернувшемся с неба монахе, которого другой спросил, как там, в небесах, выглядит богословие сравнительно с земным?
— Frater carissime[70], — ответил монах, — dogmatica aliqualiter aliter, moralis autem totaliter aliter — догматическое несколько иначе, а нравственное — совершенно иначе.
Позже, припоминая четырехлетнее изучение богословия Васарис старался выяснить: какое влияние оказала на неге эта суровая наука о человеческой совести? И пришел к заключению, что оно было довольно незначительным. Пожалуй, нравственное богословие несколько углубило его способность к самонаблюдению и самоанализу, но этому немало содействовали и другие духовные упражнения: медитации, испытания совести, исповеди, реколлекции. Но особого влияния богословие на него не оказало.
Даже его исповеди остались такими, как были, хотя первые два года, тяготясь своими грехами, он единственно от богословия ждал помощи. «Вот, — успокаивал он себя, — изучу богословие, лучше познаю свои поступки, буду знать, как их расценить, определить и лучше излагать на исповеди». Увы! ничего не дала ему эта наука. Он так и не сумел воспользоваться ею. Черта, отделяющая поступок от греха, так и осталась для него неощутимой и неясной. Учение о понимании разумом, свободной воле и свободном согласии он никак не смог применить к себе. По-прежнему, готовясь к исповеди, он равнодушно взвешивал свои поступки и мерил их тем же объективным мерилом, не будучи глубоко уверен, есть ли в них наличие греха. Поэтому и на исповеди он прибегал к тем же трафаретным формулам.
Не дождавшись никакой помощи от богословия, Васарис разочаровался и совершенно охладел к нему. Его раздражали тонкости различий между выраженными суждениями и этот сухой, педантический разбор казусов, словно душа человеческая была механизмом машины, в которой можно было размерить напряжение каждой пружинки, величину и трансмиссию каждого колесика. Ничто не было более чуждо Васарису, чем судить, поучать, морализировать.
Вообще в тот год Васарис всем был недоволен. Он чувствовал, что вокруг образовывается какая-то пустота, высасывающая из него силы, веру в себя, оптимизм. Изучение новых предметов отнимало все время и не давало взамен никакого удовлетворения. Деятельность кружка застыла на мертвой точке. Не хватало времени ни для чтения, ни для творчества. Кружковцы решили хотя бы вести дневник, и Васарис взялся выполнить это решение. Дело было опасное, потому что дневник мог неожиданно попасть в руки ректора или Мазурковского. Но риск придавал еще больший интерес и хоть сколько-нибудь разнообразил серую пустоту жизни. Свой дневник он хранил чаще всего в «крысятнике» в запертом на ключ сундучке с сухарями, — единственном более или менее надежном месте. Васарис за пазухой приносил из «крысятника» дневник в аудиторию и, принимая все меры предосторожности, записывал в него дневные впечатления. Тайную неудовлетворенность, наивную критику, самооправдание и признание своей вины таили эти страницы.
XV
Вот что писал третьекурсник Васарис в дневнике, который он прятал в «крысятнике» в сундучке с сухарями.
Суббота. Канун вербного воскресенья.
Слава богу, можно вздохнуть свободней. Занятия кончились, и впереди две недели праздников. Надоело хуже горькой редьки. Не только занятия, но и вся жизнь сделалась невыносимо скучной. Каждый день одно и то же, одно и то же. Мы превращаемся в какие-то автоматы. Ведь как мало остается у нас живых чувств или интересных мыслей. А к чему сводятся наши беседы и шутки, хотя бы во время рекреации? Хорошо еще, когда находится несколько шутников, как это было сегодня. Зубрюс с Пликаускасом дурачились весь вечер, а остальные окружили их и нехотя смеялись. А куда денешься, если некуда ускользнуть из этой душной залы? Если бы не пост, хоть попеть можно было бы, но и песни в конце концов надоели. Редко кому из товарищей удается что-нибудь прочесть. Времени нет.