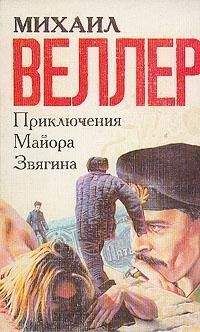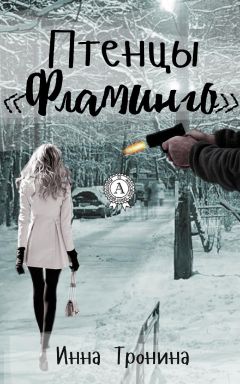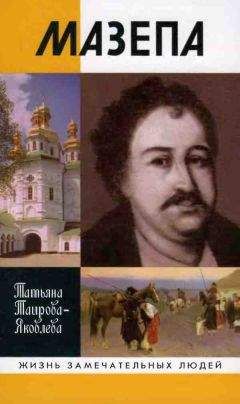Анучин подумал о своих ночных клятвах, о своей болезни и слабости и помрачнел.
– Мне все равно недолго осталось… – горько сказал он.
– Что такое? – сощурился Звягин.
– Сегодня утром в больницу ложиться надо было… – Услышав суть дела, Звягин вместо жалости выказал злость:
– Лечат вас, разгильдяев, бесплатно, а вы еще фортеля выкидываете! Пошли на почту – хоть позвоним, предупредим. Какой диспансер?
– Номер шесть. Петроградского района. Я телефон не знаю…
– Через справочное узнаем номер регистратуры.
До почты топали километра два. За заборами жгли полую листву, белесые дымы крутились меж деревьев. Белка с конца сука уставилась любопытно, зацокала. Анучин скисал, «вибрировал». Наменяли пятаков, полчаса дозванивались.
– Кого? Дранкова? – сквозь треск пробился женский голос. – У него сейчас прием. Что? Подождите, я его позову.
Скормили автомату еще несколько пятачков, дожидаясь…
– Алло!! Кто?! – не расслышал Дранков. – Анучин?! Дорогой, – закричал он из далекого Ленинграда, – можете не являться! Что? Приношу извинения, сестра перепутала снимки! Что? Я говорю, произошла ошибка! Что? Да! У вас все в порядке! Точно, точно! Анализы? Есть некоторые изменения в печени, обычные для хронических алкоголиков. Настоятельно рекомендую бросить пить.
– Так у меня… нету?.. – Анучин страшился выговорить роковое слово.
– Нету у вас рака, – сказал далекий Драйков. – Диета, отказ от алкоголя, а то и вправду можете нажить. Вы здоровы. Всех благ.
Щелк. Пи-пи-пи…
Из будки Анучин вышел с обалделой улыбкой, не чувствуя текущих слез. Стоял и глубоко дышал, глядя в пространство.
– Здоров… – прошептал он, мотая головой. – Ох, мама…
– А здоров, так идем назад… – ласково сказал Звягин, обнимая его за плечи.
Померкшая было жизнь заискрилась ослепительным будущим. Тихая музыка ликовала в Анучине, суля вечность и блаженство. Потрясения последних часов изменили, повернули что-то в самой сердцевине его естества. Словно распахнулась в душе закрытая раньше дверь, и дохнуло оттуда свежим воздухом: счастьем бытия.
Его распирало; говорливость с нервным смешком напали на него; он оступался на неверных ногах и все рассказывал, рассказывал поддерживавшему его Звягину, как тяжко бедовал в этот месяц, сколько перенес, и какая гора свалилась с его плеч!
– Бросай пить, пока дуба не врезал, – серьезно сказал Звягин.
– И брошу, – спокойно и отчетливо понял Анучин. Да; хватит; сколько еще можно искушать судьбу. Жизнь еще впереди. Полжизни. Все можно сделать. Наладить. Вернуть. Начать сначала. Он хочет жить. Очень хочет.
Он вдруг подумал о водке с суеверным страхом. Вдруг показалось, что если выпьет еще хоть рюмку, нарушит свои ночные зароки – и везение порвется, смилостивившаяся удача отвернется от него, конец его настигнет, судьба не простит отступничества. Нервы его были на пределе.
…Звягин добрался домой к вечеру и полез в ванну под хлещущий кипяток.
– Хорошо прокатился на яхте? – спросила жена, расчесывая на ночь волосы.
– Отменно! – прогудел он, распаренный и благодушный, приканчивая банку с маслинами. – Небывалая радость – болтаться до утра в заливе. Единственное развлечение – наблюдать нашего алкаша, как у него душа в пятки уходит. Дивный материал для кандидатской по психологии экстремальных ситуаций. Специально с волны гребень рвали, чтоб его пробрало.
– А вы сами не могли утонуть? – поинтересовалась дочка голосом, отражающим ее убеждение, что утонуть они конечно не могли ни при какой погоде.
– Чтоб мой же фельдшер меня утопил? – возмутился Звягин. – Гриша толковый яхтсмен. Да и кто бы нас в штормовое предупреждение выпустил в залив? Волна была от силы полтора метра.
– Тогда что ж тут страшного? – разочаровалась она.
– Это из теплой квартиры не страшно. А когда сидишь на фанерке ниже уровня воды, и фанерка эта проваливается под тобой, и волна хлещет, и темень, и извещают тебя, что – каюк, это, знаешь ли, впечатляет.
– А спасательный круг у вас был?
– Жилеты были, но мы их спрятали, чтоб ему небо с овчинку показалось.
– И как он теперь себя чувствует? – спросила жена.
– Как и требовалось. Сидит как миленький на даче, оздоровляясь физическим трудом на свежем воздухе. А также приступил с сегодняшнего дня к курсу голодания – пусть очистит организм от всякой дряни. После этого легче не пить, физиологическая встряска.
– Думаешь, выдержит?
– Должен. Там масса дел, телевизор… Через два участка старичок непьющий живет, который и позвонит мне в случае чего, и его вечерами проведает – поболтать.
Октябрь стряхивал последние листья с деревьев. Дачный поселок опустел, заморосили тягучие дождики, ночами ветер шумел в голых вершинах. В душе Анучина царили мир и надежда.
Утром он выпивал врастяжку стакан воды, медленно одевался и шел колоть дрова – огромный штабель под навесом. Потом растапливал печку, подметал полы и начинал возиться; столярничал в сарае, чинил забор, менял расколотые листы шифера на крыше. Нашел в мешке остатки цемента, принес с берега песку, подобрал несколько брошенных кирпичей, – поправил трубу. Быстро уставал, бросало в пот, но Звягин предупредил, что это от голодания, не надо перенапрягаться, пусть не волнуется. За день аккуратно выпивал предписанные три литра воды, совершая энную гигиеническую процедуру…
(«А это что?» – конфузливо спросил он при виде предмета. – «Это клизма», – разъяснил Звягин. -«Зачем?..» – Звягин объяснил, зачем. Анучин покраснел, но слушал внимательно.)
По вечерам он смотрел телевизор, читал врученную Звягиным книжку Углова «В плену иллюзий», отрывал листок календаря, – и ложился спать. Засыпая, мечтал: как вернется Нина с Иванкой, как устроится на работу, как поедут все вместе в отпуск к матери. Иногда легко плакал: картины рисовались щемяще счастливые; начинал жалеть жену, сына, мать…
Вечерами же обычно заглядывал соседский старичок на телевизор, рассуждал об автомобилях, рассказывал о сыне, начальнике цеха; ничего, жить можно было.
Первый день Анучин перенес легко, но на второй есть хотелось невыносимо, особенно к вечеру. Нескоро заснул… Третий и четвертый дни он буквально считал минуты – скорей бы полночь! Вынул рассохшуюся раму, подтесал, заменил несколько планок, отшлифовал шкуркой до немыслимого блеска, чтоб чем-то отвлечься. (От запаха гретого столярного клея аппетит просто с ног валил.) А на пятый – как переломило, стало легче. Пришло незнакомое ощущение полной телесной чистоты, будто его всего насквозь промыли. Радостное было ощущение – жить было радостно, радостно себя чувствовать.
Раз в несколько дней вваливался Звягин – бодрый, пахнущий электричкой, дорогим одеколоном, отутюженной тканью (обоняние у Анучина обострилось сейчас до чрезвычайности). Распространялась от него уверенность, надежность какая-то. Пару раз заглядывал друг его один, кавказец по виду, сказавшись живущим в том же поселке: хвалил анучинскую работу, приглашал будущим летом поработать у него. Однажды Гриша, тот яхтсмен, с девушкой заехал, думал Звягина застать: оказался он фельдшером, раньше у Анучина никогда не было знакомых медиков. От Гриши Анучин узнал в тот вечер, под треск и отблески печки, что такое «штурмовые» бригады, и какая нагрузка на «скорой помощи», и с чем приходится сталкиваться каждое дежурство. Не думал он раньше, почем достается врачу его хлеб. Гриша с девушкой переночевали и уехали утром, и было Анучину не так скучно: живые люди в доме.
– Ну как – вытянешь? – спросил Звягин на двенадцатый день.
– Вытяну, – сказал Анучин.
Звягин привез письмо от матери (соседка вынула из ящика): писала, что все у нее в порядке, ничего в больнице не нашли, чувствует себя здоровой, пусть сынок не волнуется; ничего не надо ей, просто тогда знакомая сдуру напугала, якобы за операцию лучше заплатить деньги; когда он приедет погостить?.. Хотела бы сама навестить их, внука понянчить, помочь, может.
У Анучина возникло впечатление, будто мощное колесо, зацепившее его и уволокшее на темное дно, теперь, продолжая вращение, выносит его к сияющему вверху свету.
Джахадзе, дежуря по «скорой» вместе со Звягиным, благосклонно сообщил:
– А мне понравилось, как он прикладывает руки к моей развалюшке. Могу съездить туда еще. Пусть он полки на кухне сделает.
– И когда я перестану врать, – хмыкнул Звягин. – Если б он узнал, что это я ему все устроил, он бы меня убил.
Раскинувшись в казенном креслице с владетельным видом магната на борту собственной яхты, Джахадзе отозвался:
– Тебя не очень-то убьешь. И вообще я бы назвал твои методы интенсивной психотерапией. Но скажи: я буду иметь почти задаром отремонтированную дачу, он будет иметь счастье и здоровье, его семья будет иметь мужа и отца, и даже Гриша имел удовольствие выпендриваться перед тобой на своей яхте, как морской волк; а ты что будешь иметь? Ты благотворительное общество или рукопашный борец за трезвость?