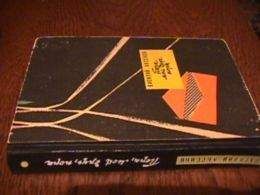Я прямо зажмурился, когда вообразил, как начнутся подводные залпы ракетами, как они начнут нас долбать, а мы их двойным ударом, веселые будут дела! А мне надо дочку еще воспитывать, в детсад ее по утрам водить, и пацана хочу заиметь – заводишко этот не раньше чем через год достроим, а на Таймыре дел тоже невпроворот – ну, уж фигу вам с маслом!
– Давай сначала! – заорал я опять кукушке, этой старой лесной дешевке, которой самой-то небось не меньше ста лет, которая небось видела здесь черт те что, партизан, наверно, видела и колчаковских белогвардейцев, да еще собирается небось пожить сотняжку-другую.
Ну, тут она испугалась, наладилась, начала работать на полных оборотах. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку…» Уже за двадцать перевалила – дочка моя на третий курс перешла в Московском государственном университете, а пацаненок экзамены сдает на аттестат зрелости, грубит уже мне, щенок, на девчонок стал заглядываться…
– Давай, давай! – крикнул я старой птице. – Мотай дальше!
Пока из леса вышел, со счету сбился. Вроде на восьмой десяток перевалило. Хватит, старой калошей шлепать тоже неинтересно. Собирайте гроши на поминки, чтоб все было как у людей. Поплачьте малость, это невредно. Умолкла. Нашли мы с ней контакт. Плачьте, мои товарищи, старые хрычи, это невредно. А впрочем, может, еще десятку добавить?
– Ну-ка, давай! – сказал я тихо, и она мне еще десятку отстукала, порядок.
Я посмотрел с бугра вниз на затон и увидел, что катер наш «Балтик», 0-138, в полном порядке, стоит себе среди разного деревянного и ржавого железного хлама. Мухин и Сизый заметили меня на бугре и стали руками махать: быстрей, мол. Мухин, капитан наш, старый морячина, тоже балтийский, а Сизый, матрос, молодой местный пижон.
Всю осень и зиму, как приехали мы сюда с Валькой Марвичем, мы втроем ремонтировали этот катер, можно сказать, строили его заново: мотор перебрали, обшивку даже клепали и варили заново.
Ничего, не обижало нас начальство – оклады дали по летнему тарифу, по навигационному, и премиальные спускали, по полторы сотни выходило чистых.
Сизому, понятно, меньше, как неквалифицированному пижону.
И вот сейчас катер наш был на плаву, мощненький такой, осталось только его покрасить. За олифой я и ездил на пристань.
– Олифу достал? – спросил Мухин.
– За кого вы меня принимаете, товарищ Мухин? – сказал я. – Югов сказал: достану – значит, достанет.
– Значит, покрасим? – смекнул Сизый.
– Верно ты сообразил, – говорю ему. – Значит, покрасим.
– Давай заводи свой патефон, – буркнул Мухин.
Я полез в свое отделение, запустил машину. Все у меня было в порядке, прямо сердце радовалось.
Побежала наша «Балтика» по сибирской реке. Я поднялся наверх и зашел в рубку к Мухину.
– Мухин, – говорю ему, – подойди на секунду к дебаркадеру.
– Нет уж, – отвечает Мухин, – там эта публичка навалится, а у нас груз.
– Тихонько подойди. Кореша одного надо прихватить с женой.
– Ладно, – говорит Мухин. – Только на айн момент.
Когда появился перед нами голубой дебаркадер, я посмотрел на часы. Точно подходили, как я и обещал Юрке Горяеву, точно в двенадцать ноль-ноль.
Юра и девушка эта самая стояли на палубе дебаркадера ближе к корме и всматривались в нас. Я махнул им.
Когда подошли, Юрка тотчас же бросил на палубу свой чемодан и девчонка свой тоже бросила. И оба прыгнули к нам. Неплохо это было сделано. Мы сразу же отвалили, публика только заорать успела.
– Знакомьтесь, – сказал Юра.
– Очень приятно, Таня, – сказала девчонка и руку мне протянула.
– Югов Сергей Иванович, – сказал я, нахмурясь.
Всегда я хмурюсь, когда с красивой девчонкой знакомлюсь, не пойму отчего. По отчеству себя величаю.
– Вот это чувиха! – шепчет мне Сизый.
– Не шепчи! – тихо рявкнул я на него и полез зачем-то в свой отсек.
Клапана мне надо было посмотреть, вот зачем полез.
Покрутился я с клапанами этими пяток минут – и опять наверх.
Нужно мне было рассмотреть эту Таню как следует. Гляжу. Сизый уже с ней сидит, травит ей потихонечку.
– Я, знаете, стремлюсь к повышению, – говорит Сизый.
– Заочно учусь в Ленинградском кораблестроительном.
Конечно, трудно сочетать. А еще и спорт. Я, Таня, борьбой занимаюсь.
Я присел рядом, позади них, и слушаю. Очень интересуют меня люди, которых, грубо говоря, хвастунами можно назвать. Все с них как с гуся вода.
Что такое хвастовство? Удовольствие оно доставляет человеку. Я вот не умею хвастать и часто думаю, что зря.
Хвастовство не влечет за собой никаких неприятных последствий.
Помню, на эсминце, когда спартакиада флота началась, записывается к нам на боксерское соревнование один старший матрос. Я его спрашиваю (при ребятах, заметь): «Какой у тебя разряд, старший матрос?» А он отвечает нехотя так: да так, мол, на первый работаю. Ну, думаю, дела! Стали мы с ним работать, смотрю, прет старший матрос, как бык, и руками машет, не тянут.
Сильно ему тогда от меня досталось, и ребята смеялись, а все ничего, не убавилось его, старшего матроса, от этих насмешек.
Так и Сизого не убавится, когда Таня узнает, какой он на самом деле заочник и борец. Каким был местным неквалифицированным пижоном, таким он и останется. «Чувак», «чувиха» – весь разговор.
Так, Таня встает и идет на нос, где Юра стоит. Юбка у нее полощется на ветру, коленки светятся, прямо хоть зажмурься, и волосы разлетаются. Улыбнулась мне. В общем-то она, должно быть, хорошая девчонка. Не просто фифа из Москвы, а с характером и с печалью. Пошел я за ней, и стали мы втроем стоять на носу. Стояли, помалкивали, а ветер по нас хлестал.
Дружно это как-то было, очень хорошо, будто мы старые друзья с Таней и Юрой, будто детство вместе провели.
– Шли бы вниз, в каюту, – сказал я им потом. – Нам ходу пять часов. Поспите.
– А вы местный, Сережа? – спросила Таня.
– Нет, я с Балтики, – говорю, – осенью только завербовался в Березань на строительство.
– Что же вас сюда потянуло?
– Да так, – говорю, – надумали мы с одним дружком поехать, вот и поехали.
– А кем вы на Балтике были?
«Может прихвастнуть? – подумал я. – Убавится, что ли, меня?
А ей интереснее будет». Но не решился.
– Механиком работал по дизелям, – сказал я.
– А в каком вы городе жили? – спросила она.
– В Пярну жил последний год.
– А-а, – протянула она и внимательно посмотрела на меня искоса.
И тут меня словно ожгло. Поплыли, полетели на меня воспоминания прошлого года, потому что повернулась она ко мне тем же ракурсом, что и на фото открытке. Я вспомнил, в каком виде ввалился тогда ко мне Валька Марвич и как мы с ним ушли на море и там сидели под ветром, хлюпали папиросками, а он мне фотооткрытку эту показывал и что-то неясное толковал о ней, об этой Тане, и о себе, и о каких-то других людях, о людях вообще.
А потом ночью мы лежали с Тамаркой и слушали, как он ворочается на раскладушке, молчали, не мешали ему переживать. А также вспомнил наши решительные прогулки в толпе курортников по вечерам, сто грамм с прицепом – хватит или добавим, давай добавим, давай куда-нибудь поедем, у меня специальность хорошая, флоту спасибо, жена твоя будет грустить, ну, погрустит и перестанет, я тебя что-то не пойму, тогда давай еще – а уже было закрыто и не пускали никуда. Да это точно она, Татьяна!
– А вы кто будете? – спросил я для проверки.
– Я в кино снимаюсь. Актриса, – говорит она.
– Идите вниз, Таня, – сказал я. – Отдохните.
– Ага, – сказала она и дернула Юру за рукав. – Пойдем.
Я за Таней пошел, а Юра Горяев с другого борта. Смотрю, Мухин мне подмигивает на Таню и большой палец показывает, а потом на Юру презрительно машет – это, мол, ерунда, не соперник, мол, тебе, Югов, а так, только место в пространстве занимает. Если бы знал Мухин, кого мы везем…
И вообще он это зря, Мухин. Я не из таких. Есть жена – и ладно, а крановщица Маша – это так, с кем не бывает.
Бывает со всяким. С Мухиным такое бывает чаще, чем со всяким. Мухин баб не жалеет, потому что от него в свое время невеста отказалась.
Он очень правильный мужик, Мухин, скажу я тебе! Он мне раз такое из своей жизни рассказывал, что не во всякой книжке прочтешь.
Служил наш Мухин во время войны на подводной лодке, и накрыл их «юнкерс» своими бомбами. Лодка лежит на грунте с распоротым пузом, всем в общем пришла хана, только Мухин и раненый торпедист в одном отсеке жить остались. Это где-то возле Клайпеды было в сорок первом. В общем представь себе, в кромешной темноте с раненым торпедистом. Дышать почти нечем, спички еле горят из-за недостатка кислорода. Часов через несколько Мухин взял буек, вылез через торпедный аппарат и выплыл на поверхность. А ночь уже была. Поставил Мухин буек над этим местом и поплыл куда-то вольным стилем, может, в Швецию, может, в Финляндию, а может, к своим. К своим попал. В пяти километрах на песчаной банке рота наша стояла из последних сил.