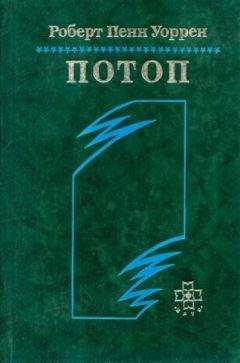— Меня зовут не Джуди, — сказала она раздражённо и присела на край кровати, натягивая на себя розовое вязаное покрывало.
— Да нет, вы — Джуди, — сказал он и вышел в предутреннюю мглу, ненавидя весь мир и себя самого.
Несясь к Нашвиллу и слыша, как поют шины на зеркальном полотне дороги, Бред думал, что ему не надо было останавливаться.
Но когда он остановился, он был горд тем, что остановился. На это понадобилось чуть не двадцать лет, но наконец он всё же остановился. И, остановившись, почувствовал удовольствие и решил, что больше никогда — ни сознательно, ни бессознательно — не отвернётся, проезжая мимо этого места.
Но теперь, когда эта замечательная дорогая машина, белея, летела по бетонке, он почувствовал, что это не так. Теперь он почувствовал, что потерпел новое поражение. И без мрачной бравады сказал себе, что у него хватает честности признать: да, на том же поле битвы он вторично потерпел поражение. Даже толком сам не понимая, в чём оно состоит.
В былые годы он иногда себя уговаривал, что почти двадцать лет назад он, в сущности, одержал победу. Ведь она получила то, что просила, и заплакала. Да, победу. Так он себя порой убеждал, когда шагал по солнечной улице или сидел на высоком табурете у бара. Но когда его мучила бессонница или не шла работа, он всегда знал, что потерпел поражение. И теперь, летя по бетонке, он себе в этом признался, даже если до сих пор не понимал, в чём же было то поражение тысячу лет назад, в 1941 году, когда мир был ещё так молод и весел.
Она обернулась. Она оборачивается ко мне лицом. Она улыбается.
Он увидел дорожный знак «двадцать пять миль до Нашвилла». Он взглянул на часы. Даже когда он туда доедет, ему ещё надо будет пробиться сквозь поток машин к Берри-Филд. Он так давно тут не был, что вряд ли сразу найдёт дорогу, ведь там, в городе, всё могли перестроить. Он следил за стрелкой спидометра, она стояла на шестидесяти восьми. Тогда он подумал: Какого чёрта, ну и что, если Яше Джонсу придётся обождать на аэродроме минут десять?
И снизил скорость почти до законной.
Но даже поплутав по городу, он добрался до Берри-Филд в половине третьего и успел наглядеться на сверкающую голубизну неба, из которой с запада должен был появиться «Дуглас», летевший из Лос-Анджелеса, а также поразмыслить о том, что же, в сущности, собой представляет этот Яша Джонс. Он знал его только понаслышке, не был с ним и знаком. Как известно, знакомых у Яши Джонса было немного.
Бред представлял себе Яшу Джонса, не зная даже, как он выглядит, потому что Яша Джонс никогда не появлялся в тех местах, куда преуспевающие люди ходят, чтобы себя показать, вызвать зависть и подкрепить свою уверенность в том, что они поистине преуспели и, право же, могут не страдать от ночных страхов; он не бывал в таких местах, где сам Бредуэлл Толливер появлялся лишь изредка, сказав себе, что ему-то не нужна подобная уверенность, а к тому же он давно решил, что смотреть на то, как какой-нибудь неудачник пресмыкается перед метрдотелем, малопочтенное занятие. Поэтому если он и приходил в такое место, то с чисто практическими целями: зная, в каком мире мы живём, ему иногда надо было тактично внушить какой-нибудь девушке, что к нему-то метрдотель относится почтительно.
И стоя тут, на Берри-Филд в Теннесси, он на миг увидел себя перед сверкающей белизной скатертью, а напротив в мерцании свечей ему улыбалось женское лицо. Но мгновение было настолько кратким, что он так и не разобрал, чьё это лицо. И вдруг из-за этой картины, заслоняя её, в голубом небе возникла чёрная точка, которая станет «Дугласом».
Тут он снова постарался вообразить Яшу Джонса, воссоздать его облик по немногим опубликованным фотографиям, на которых он чем-то напоминал Андре Жида и Димитрия Митропулоса. Ибо голова у этого вундеркинда Яши Джонса была лысой, лысой, как яйцо, извечно лысой, и на этих немногих фотографиях лицо выражало такую же глубокую погружённость в свой внутренний мир и такую сдержанную страстность, как на фотографиях старого Андре и стареющего Митропулоса. Лицо Яши Джонса на этих редких фотографиях было всегда слегка опущено, взгляд затаённый, а голова мыслителя с налётом какой-то экзотики казалось бесплотной и словно парила в пространстве.
Экзотика — это слово пришло ему в голову, когда он стоял у ворот и ждал, пока самолёт приблизится и обретёт очертания. Да, в этом лице была экзотика еврейского интеллектуала. Он знал, конечно, что ни Жид, ни Митропулос не были евреями, но шутливо сказал себе, что, будучи истинным сыном Фидлерсборо, он представлял себе еврея квинтэссенцией экзотики, особенно же экзотики тайной мудрости и чуточку зловещего всезнайства, которые могут погубить здоровую радость жизни и вызывают у средних людей, преданных этим повседневным радостям, смятение, уныние и, естественно, злобу.
И поэтому на смену Яше Джонсу, Андре Жиду и Митропулосу в его воображении возник образ маленького старого Израиля Гольдфарба, сгорбившегося в своей портняжной мастерской на Ривер-стрит в Фидлерсборо, — жёлтый лоб, тонкий, как бумага, нос и тёмные страдальческие глаза, склонённые над иголкой, которая с каждым годом сновала всё медленнее в ревматических пальцах. Он то и дело задыхался от кашля.
У старого Изи Гольдфарба над швейной машинкой висела полка с книгами: их там было немного, всего десять или пятнадцать, и всё не по-английски. В погожие весенние вечера, когда поздно темнеет, старый Изя любил сесть перед своей мастерской и читать, иногда отрываясь от книги, чтобы поглядеть на огромную излучину реки, скользившей мимо, как расплавленная медь, красную от весеннего груза глины, вымытой водами из Алабамы, и от лучей заката. Иногда старик и вовсе забывал о книге. Он сидел, глядя через медные воды на закатное небо.
В Фидлерсборо спорили, на каком языке написаны книги старого Изи: на идиш, настоящем еврейском, на немецком или ещё на каком-нибудь наречии. Но часть из них была по-французски. Когда Бред учил французский в средней школе Фидлерсборо, старый Изя раза два спрашивал его, как он поживает, или замечал, что сегодня, не правда ли, прекрасная погода. Люди иногда показывали мистера Гольдфарба приезжим, сообщая при этом, что он говорит по-французски, так же, как обычно показывали, докуда поднималась вода на кирпичной стене скобяной лавки мистера Лортона на Ривер-стрит или на новые ворота кладбища и прочие городские достопримечательности. Учитель французского, один из учителей средней школы, недавно окончивший университет в Ноксвилле, кажется, признал, что мистер Гольдфарб и правда говорит по-французски, только произношение у него не из лучших, не парижское. Однако кое-кто заметил, что этот молодой человек обегает нижнюю часть Ривер-стрит, особенно в те времена года и часы, когда мистер Гольдфарб сидит на улице и может справиться, как он поживает. Юный Бред Толливер, например, это отметил.
Бреду всегда нравился мистер Гольдфарб. Он угощал лимонными леденцами и в то же время разговаривал с тобой мягко, внимательно, как со взрослым. Позднее он играл с Бредом в шахматы, не давая ему фору. Когда Бред уезжал в начальную школу в Нашвилл, он зашёл к мистеру Гольдфарбу попрощаться. Но через два года, уезжая на восток, в Дартхерст, он уже не зашёл к мистеру Гольдфарбу попрощаться. Там, в Дартхерсте, он не раз вспоминал об этом упущении и очень каялся. Он ещё больше каялся следующим летом, когда гостил у соученика в штате Мэн и узнал, что мистер Гольдфарб умер.
Потом он слышал, что мистеру Гольдфарбу устроили пышные похороны. На стене над его койкой в задней комнате мастерской обнаружили приколотый адрес какого-то Гольдфарба из Цинциннати, и, так как в Фидлерсборо больше не осталось евреев, методистский священник послал туда телеграмму. Ответ пришёл немедленно: «Прошу сохранить тело до приезда все расходы будут оплачены Мортимер Гольдфарб».
И мистер Лортон, владевший не только скобяной лавкой, но также и мебельной, и бюро похоронных процессий, сохранил тело умершего. Родственники, в том числе сын, приехали на большом чёрном автомобиле; лак его блестел даже сквозь пыль, покрывшую его на дорогах Кентукки; автомобиль был такой длинный, что, как говорили люди, развернуться он мог только за городом.
Они привезли с собой даже раввина. Похороны мистера Гольдфарба в самом роскошном гробу мистера Лортона были устроены по еврейскому обряду, но на них собрались все. И все говорили, какие это были достойные похороны. Всем было особенно приятно, что покойный оставил письменное распоряжение похоронить его в Фидлерсборо. При этом уместно было вспомнить, что сам Христос тоже был евреем. И все обменялись рукопожатиями с родственниками усопшего.
Родные сняли с полки книги, удостоверились, что за покойным не было долгов, сели вместе с раввином в чёрный автомобиль и укатили. Они оставили в мастерской всё как было, но наняли человека, чтобы тот привёл её в порядок для передачи владельцу. Позднее методистский священник сообщил своим церковным старостам, что в знак уважения он получил от мистера Гольдфарба из Цинциннати внушительное пожертвование. Кто-то выразил недоумение, почему сын из Цинциннати, если он такой богач, не заботился о своём папаше и дал ему помереть от старческого ТБЦ[3]. По словам священника, сын дал ему понять, что отец хотел жить своей жизнью, и добавил, что нам не дано об этом судить. Тогда кто-то припомнил, что мистер Гольдфарб дважды в год куда-то ездил. Видно, в Цинциннати. Значит, сын присылал ему на проезд. Священник сказал, что, если он правильно помнит, отъезды старика в Цинциннати совпадали с еврейскими праздниками. Он заявил, что уважает людей, не отступившихся от своей веры.