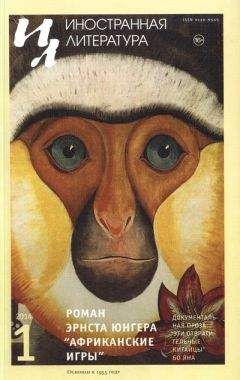Это место, где улица обретала что-то от подозрительной гостеприимности освещенной красным светом прихожей, а магазины напоминали ярмарочные балаганы, показалось мне вполне подходящим для человека, находящегося в бегах и иногда украдкой засовывающего руку в карман брюк, чтобы погладить шероховатую рукоятку шестизарядного револьвера.
Некоторое время я изучал сомнительные почтовые открытки, в огромных количествах развешенные за стеклами витрин. Затем меня привлекла грубо намалеванная вывеска кабинета восковых фигур. Стесняясь своего любопытства, я бродил по лабиринту помещений среди неподвижных образов своих современников, стяжавших добрую или дурную славу, — разнообразных примеров того или другого способа покинуть наезженный тракт заурядной жизни. Перед последней комнатой за вход взималась особая плата: там под стеклянными колпаками, освещенными электрическим светом, было выставлено собрание анатомических экспонатов. Восковые части человеческих тел со следами неслыханных болезней, изображенные в сине-красно-зеленой гамме. Возле особенно ужасных я со страхом и удовлетворением думал: «Такие наверняка встречаются только в тропиках!»
Напротив кабинета восковых фигур, на противоположной стороне пассажа, располагался ярко освещенный ресторан. Войдя в него, я увидел, что обслуживание там происходит автоматически. Самые разные блюда, поражающие глаз своей пестротой, стояли на выбор на круглых подносах либо в маленьких подъемниках, и требовалось лишь опустить монету, чтобы блюдо — с жужжащим звуком часового механизма — было тебе подано. Таким же манером, стоило опустить монетку, из крана в подставленный стакан наливался любой напиток, какой только пожелаешь. Для человека, который, обслуженный незримыми силами, уже наелся и напился, наготове стояли другие аппараты, демонстрирующие пестрые картинки или наполняющие ушные раковины короткими музыкальными пьесами. Не забыто было даже обоняние, ибо через крошечные сопла хитроумных распылителей каждый мог опрыскать себе костюм одной из благоухающих жидкостей с экзотическими названиями.
Такое призрачное обслуживание показалось мне чрезвычайно удобным и будто созданным для человека, у которого есть убедительные причины не привлекать к себе внимание. Я принялся, как фокусник, доставать различные салаты и бутерброды и пил гораздо больше, чем в самом деле хотел: потому что напитки с диковинными названиями возбуждали мое любопытство. Я и картинки смотрел: они откидывались одна за другой, если покрутить ручку, и были снабжены подписями вроде «Посещение тещи» или «Несостоявшаяся брачная ночь». Потом я еще прослушал несколько музыкальных пьес и привел в действие пульверизаторы с одеколоном.
Эти развлечения доставили мне удовольствие, хотя в них было нечто зловещее, как и во всяком соприкосновении с миром автоматов. Но я тогда не понимал, что именно в таких местах полицейским сподручней всего ловить рыбку в мутной воде.
На вокзал я вернулся чуть ли не в последний момент. Поезд уже ждал на безлюдной платформе, залитой белым светом электрических дуговых ламп. Почти все вагоны стояли пустыми. Я растянулся на сиденье, положил под голову рюкзак и накрылся дождевиком. Ложе было жестким и непривычным, но меня от продегустированных ликеров обуяла сонливость, так что я крепко заснул еще до начала поездки.
Среди ночи я проснулся. Железнодорожник с маленькой лампой потряс меня за плечо и спросил, куда я еду. Он смотрел на меня недоверчиво, потому что мне пришлось достать проездной билет, прежде чем я смог ответить. Наконец он проворчал:
— Здесь конечная станция! Пересадка в пять утра!
Я подхватил рюкзак, выскочил из вагона и уселся в пустом зале ожидания. Теперь я ощущал скверную трезвость, а от ликеров во рту остался неприятный привкус. Мне снова пришла мысль вернуться в привычную жизнь, и я снова пробормотал, но на сей раз заметно слабее, свое заклятие: «Возврат исключен». Всплыли всякие тягостные соображения, какие обычно подкрадываются к нам в утренние часы, во время таких предприятий, — например, что в школе все-таки было не так уж скучно и неуютно.
Беспокоило меня и то, что мое ощущение времени странным образом изменилось. Мне казалось совершенно невероятным, что с момента побега не прошло и суток и что, останься я дома, я мог бы сейчас спать еще целых четыре часа, прежде чем меня разбудила бы фрау Крюгер. Как бы я ни подсчитывал, с несомненностью выходило, что в дороге я нахожусь не год, а всего лишь несколько часов. В этом несоответствии было что-то пугающее; оно больше, чем что-либо другое, убеждало меня, что я уже вступил в совершенно новые сферы.
Некомфортность моего положения еще больше усугублялась присутствием станционного чиновника, который время от времени проходил по залу ожидания, не удостаивая меня даже взглядом, и которого окутывала атмосфера уютной деловитости, смешанная с ароматом свежезаваренного кофе. Служебный мундир чиновника был аккуратно застегнут, а красивая трубка на изогнутом мундштуке, из которой он ухитрялся выманивать впечатляющие облака голубоватого дыма, свисала почти до самой груди.
Вид его отчасти наполнял меня завистью, отчасти же странным образом ободрял, как путника ободряет свет, горящий где-то очень далеко впереди.
3
Рано утром я прибыл в Трир. Здесь я закупил провиант: белый хлеб, масло, колбасу и бутылку вина. Приобретя еще в канцелярском магазине «Велосипедную карту дальних окрестностей Трира», я двинулся в поход по одной из дорог, ведущих на запад. Я понял, что до границы (которую я собирался перейти ночью, со всеми мерами предосторожности и, по возможности, на отрезке, где растет густой лес) путь не ближний. Этот переход представлялся мне самой трудной частью моего предприятия.
Шагая с холма на холм по осеннему ландшафту с редкими хуторами, приободрился. Раскурил короткую трубку и предался приятным грезам.
Правда, эту трубку, своего неразлучного спутника, я всякий раз прятал, прежде чем пересечь очередную деревню, ибо был достаточно самокритичен, чтобы догадаться: она находится в комичном противоречии с моим обликом; а шутливый оклик больно задел бы чувство собственного достоинства, которым я дорожил, как испанец. На самом деле вкус табака мне не нравился и порой, в чем я не решался себе признаться, даже вызывал тошноту. Но хотя наслаждение, стало быть, существовало только в фантазии, курение создавало у меня ощущение уюта. Так, прежде чем подпасть под влияние книг об Африке, которыми я упивался, как Дон Кихот «Амадисом Гальским», я был усердным читателем историй о Шерлоке Холмсе. И никогда не мог прочитать предложение, в котором этот сыщик — уже в который раз — раскуривает короткую трубку, без того чтобы самому тотчас не сделать паузу и не покурить за компанию с ним.
Пока я шел, у меня было достаточно времени, чтобы обдумать свои новые идеи. Я имею в виду прежде всего два совершенно разных представления, которые в то время очень меня увлекали; сегодня они кажутся мне довольно странными, и, поскольку мое мировидение изменилось, я лишь с трудом могу восстановить их хотя бы в общих чертах.
Первое из них заключалось в сильной склонности к самовластию, то есть в желании обустроить свою жизнь, начиная с самых основ, в соответствии с собственными понятиями. Чтобы добиться такой крайней свободы, мне казалось необходимым не допускать никакого нарушения моих интересов и в особенности — избегать любого учреждения, имеющего связь, пусть даже весьма отдаленную, с характерным для нашей цивилизации порядком.
Существовал целый ряд феноменов, которые я ненавидел. К ним относились: железная дорога, городские улицы, возделанная земля и вообще любой проложенный путь. Африка же, наоборот, была для меня воплощением дикой природы, лишенной железнодорожных и прочих путей, — то есть областью, где, вероятно, еще может произойти встреча с чем-то экстраординарным и неожиданным.
Такая антипатия к проложенным дорогам дополнялась другой, не менее сильной, — антипатией к хозяйственному порядку населенного мира. В этом смысле Африка была для меня блаженной землей, где человек не зависит от товаров и, в особенности, от денег. Там, думал я, люди живут по-другому: питаются тем, что день пошлет, занимаясь собирательством или захватывая добычу. Этот естественный способ существования казался мне предпочтительнее любого иного. Я давно заметил, что все «добытое» в таком смысле — скажем, выловленная в запретном водоеме рыба, миска с ягодами, собранными в лесу, или жареные грибы — воспринимается по-другому, чем прочая пища, кажется более значимым. Подобные продукты земля дарит от своей избыточной силы (когда эта сила не расчленена в результате проведения границ), и вкус у них более дикий, приправленный природной свободой.