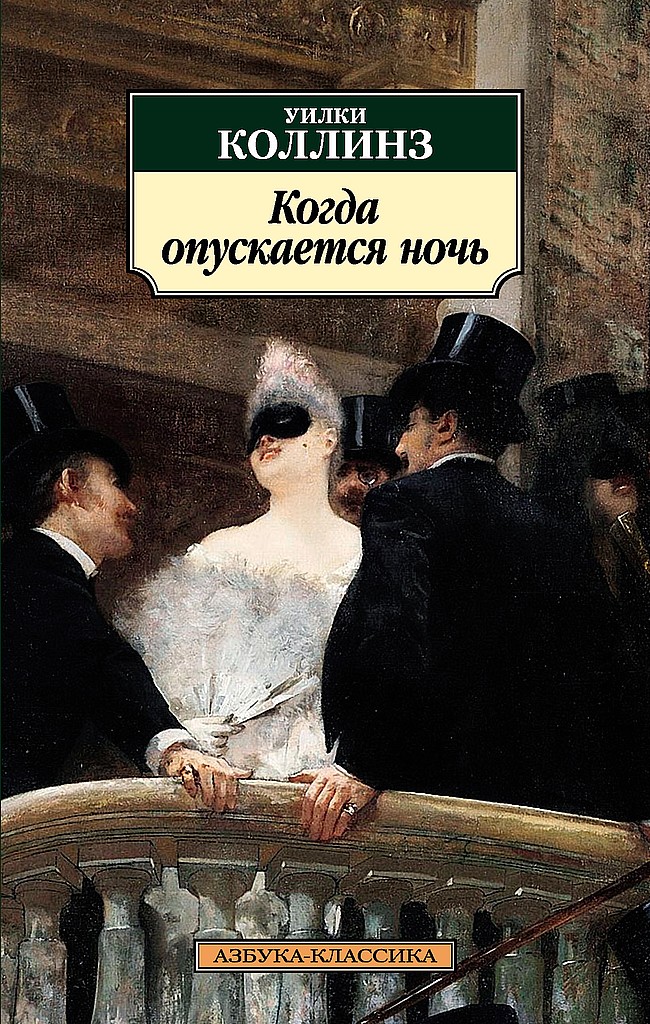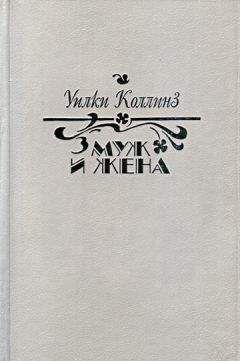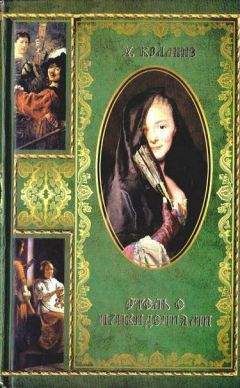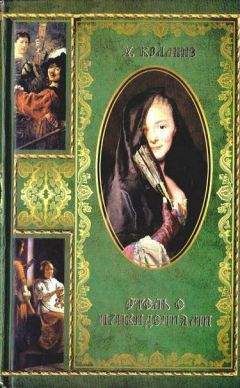Роза. — Искренними? Ах, Луи! Когда вы так говорите об убеждениях матери Шарля, я понимаю, насколько презрительно вы относитесь к его собственным убеждениям!
Трюден улыбнулся и покачал головой, но Роза не обратила внимания на этот отрицательный жест — только стояла и смотрела ему в глаза серьезно и печально. У нее выступили слезы, и она вдруг обвила руками шею брата и шепнула ему на ухо:
— Ах, Луи, Луи! Как бы я хотела научить вас взирать на Шарля моими глазами!
При этих словах он ощутил ее слезы у себя на щеке и попытался ее утешить:
— Нау́чите, Роза, непременно нау́чите. Ну же, ну же, нам надо держать себя в руках, иначе завтра вы будете дурно выглядеть!
Он отвел руки сестры и ласково усадил ее в кресло. В этот самый миг в дверь постучали, и появилась камеристка Розы, которая спешила обсудить с госпожой подготовку к завтрашней свадебной церемонии. Невозможно было и представить себе более уместной помехи. Роза была вынуждена волей-неволей задуматься о насущных мелочах, а у ее брата появился предлог уйти к себе в лабораторию.
Он сел за стол, обуреваемый сомнениями, и с тяжелым сердцем развернул перед собой письмо из Академии наук.
Пропустив все хвалебные фразы в начале письма, он всмотрелся лишь в последние строчки: «Первые три года в должности профессора потребуют от вас девять месяцев в году проводить в Париже или его окрестностях, дабы читать лекции и время от времени руководить экспериментами в лабораториях». Письмо, содержавшее эти строки, предлагало ему должность, о которой он не смел и мечтать, поскольку из скромности привык не доверять себе. Сами эти строки сулили такие обширные перспективы для его любимых экспериментов, на какие он не мог и надеяться в своем маленьком кабинете и при своих скудных средствах; и при всем при том он сидел и сомневался, стоит ли принимать предлагаемые ему соблазнительные почести и преимущества или все же отвергнуть — отвергнуть ради сестры!
«Девять месяцев в году в Париже, — печально подумал он, — а Роза с мужем будут жить в Лионе. О, если бы я мог изгнать из сердца страх за нее, если бы я мог выбросить из головы мрачные мысли о ее будущем, с какой радостью я ответил бы на это письмо согласием оправдать доверие Академии!»
Несколько минут он просидел в размышлениях. Похоже, его одолели зловещие предчувствия — щеки его становились все бледнее, а глаза заволакивались тенью.
«Если окажется, что эти раздирающие меня противоречия и подозрения, от которых я не могу избавиться, и в самом деле молчаливо сулят несчастья, которые обрушатся на нас неведомо когда, если и в самом деле (избави Боже!) рано или поздно Розе понадобится друг, защитник где-то поблизости, убежище в годину бедствий, где ей всегда открыта дверь, — где тогда найдет она защиту и убежище? У этой вспыльчивой женщины? У родни и друзей своего мужа?»
При этой мысли он содрогнулся, достал чистый лист бумаги и окунул перо в чернила. «Луи, будьте для нее всем, чем была я, ведь о ней больше некому позаботиться», — повторил он про себя последние слова матери и начал писать письмо. Вскоре оно было готово. В нем в самых почтительных выражениях говорилось, что он благодарен за предложение, однако не может принять его вследствие семейных обстоятельств, распространяться о которых нет необходимости. И вот уже надписан адрес и поставлена печать — оставалось только положить письмо в почтовую сумку, лежавшую тут же, под рукой. Перед этим решительным действием Трюден заколебался. Он говорил Ломаку, что ради сестры отказался ото всех честолюбивых устремлений, и был уверен в этом до глубины души. Но на самом деле он лишь усмирил и усыпил их до времени, а письмо из Парижа пробудило их, и теперь он это понял. Письмо было написано, рука Трюдена уже легла на почтовую сумку, и в этот миг оказалось, что всю внутреннюю борьбу придется проделать еще раз — причем в тот момент, когда он меньше всего был к ней готов! В обычных обстоятельствах Трюден был не из тех, кто откладывает решение до последнего, но сейчас решил отложить его.
— Утро вечера мудренее, подожду до завтра, — сказал он себе, убрал письмо с отказом в карман и торопливо вышел из лаборатории.
Неумолимо настало судьбоносное утро; необратимы были брачные обеты, произнесенные во зло или во благо. Шарль Данвиль и Роза Трюден стали отныне мужем и женой. Оправдалось и все, что сулил вчера великолепный закат. Утро в день свадьбы выдалось безоблачным. Брачный обряд прошел гладко с начала до конца и удовлетворил даже мадам Данвиль. Она вернулась вместе с гостями в дом Трюдена, источая улыбки и благоволение. С невестой она была сама приветливость.
— Моя умница, — проворковала пожилая дама, отведя Розу в укромный уголок, и одобрительно потрепала ее по щеке веером. — Моя умница, вы сегодня были великолепны — вы воздали должное вкусу моего сына. Дитя мое, вы доставили большое удовольствие даже мне! А теперь ступайте наверх, переоденьтесь в дорожное платье и не сомневайтесь в моей материнской любви при условии, что вы сделаете Шарля счастливым.
Новобрачным предстояло провести медовый месяц в Бретани, а затем вернуться в усадьбу Данвилей под Лионом. Прощание вышло скомканным, как всегда в таких случаях. Карета укатила, Трюден, надолго задержавшись на пороге, чтобы проводить ее взглядом, торопливо вернулся в дом. Даже пыль от колес развеялась, смотреть было решительно не на что, и все же у наружных ворот остался стоять мосье Ломак, лениво, будто ни от кого и ни от чего не зависел, и спокойно, словно на его плечах вовсе и не лежало обязанности позвать экипаж мадам Данвиль и сопровождать мадам Данвиль обратно в Лион.
Лениво и спокойно, медленно потирая руки, медленно кивая в ту сторону, куда укатили жених с невестой, стоял у ворот чудаковатый управляющий. Вдруг со стороны дома послышались шаги и словно бы пробудили его. Он бросил последний взгляд на дорогу, словно ожидал увидеть там карету молодой четы.
— Бедная девочка! Ах, бедная девочка! — тихо пробормотал про себя мосье Ломак и обернулся узнать, кто это идет к нему из дома.
Это был всего лишь почтальон с письмом в руке и почтовой сумкой под мышкой.
— Свежие новости из Парижа, дружище? — спросил Ломак.
— Прескверные, мосье, — отвечал почтальон. — Камиль Демулен [26] обратился к народу в Пале-Рояль; опасаются мятежа.
— Всего лишь мятежа! — язвительно повторил Ломак. — Ах, до чего же отважное правительство —