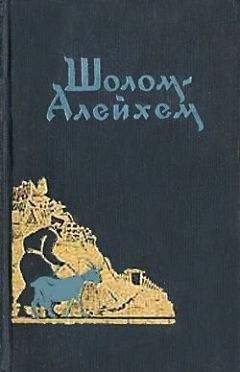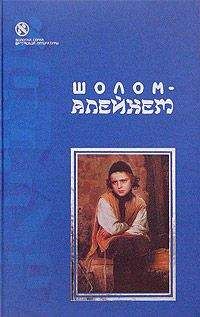Но пан свое слово сдержал. Десять лет подряд корчма оставалась за вдовой, как ни набавляли ему за аренду. Вот каковы были паны в старину!
Таких интересных историй о старине, о панах и евреях дедушка знал немало. Ребята не отказались бы слушать их без конца, если бы дедушка Мойше-Иося не любил извлекать из каждой истории мораль, что нужно быть благочестивым и всегда уповать на бога. От морали он переходил к нравоучениям и начинал распекать детей за то, что они поддаются соблазнам, не хотят учиться, молиться, служить богу. Им бы только – говорил он – рыбу удить, груши рвать и проказить с богуславскими ребятами, чтоб им провалиться!..
Богуславская река Рось. – Богуславский лес – Старая молельня. – Бабушка Гитл исполняет с детьми обряд «капорес»[41] – Дедушка благословляет их накануне судного дня, и глаза его влажны.
Трудно сказать, где было больше поэзии, больше жизни – в лесу, у реки или в старой молельне. Трудно сказать, в каком из этих трех мест больше соблазнов.
На речке веселое оживление: балагулы поят лошадей; водовозы наполняют свои бочки водой. Женщины и девушки, босые, с красными икрами, стирают белье и стучат вальками так, что только брызги летят; мальчишки плещутся в воде, учатся плавать или ловить рыбу. Раздевшись между камней, они, громко визжа, прыгают в воду и кричат: «Смотри, как я плаваю!» – «Погляди, я лежу на спине!» – «Видишь, я стою в воде!» – «А я ныряю!» – «Смотри, я пускаю пузыри!..»
Все галдят, показывают фокусы, каждый чем-нибудь да отличается. Переяславские ребята им страшно завидуют. К Шолому подходит мальчишка, совершенно голый, в чем мать родила; зовут его Авремл; он смугл, как татарин, глаза у него круглые, лицо, как доска для разделывания лапши, нос фасолью.
– Как тебя зовут?
– Шолом.
– Плавать умеешь?
– Нет.
– Что ж ты стоишь? Поди сюда, я тебя научу.
Понимаете, он берется не учить, а сразу научить. Это совсем другое дело…
Не меньше прелести и в лесу. Богуславский лес изобилует грушами. Правда, груши эти тверды, как камень, и кислы, как уксус. Но все же это груши, и платить за них не надо. Можете рвать сколько хотите – никому до этого дела нет! Трудно только дотянуться до них, потому что растут они высоко. Нужно поэтому взобраться на дерево и трясти его изо всех сил, иначе груши не будут падать. Кроме груш, в Богуславском лесу имеются и орехи. Заячьи орехи. Они поздно поспевают и покрыты горькой, как желчь, шелухой. Ядер в этих орехах нет, они еще только будут. Но не беда, все-таки это орехи. Можно набрать полные карманы. Приятно, что сам их нарвал. Но трясти груши и собирать орехи надо уметь. Авремл умеет. Это мастер на все руки. Он парень добродушный, с мягким характером. Один только недостаток у него – бедность. Его мать вдова – кухарка у Ямпольских. О дружбе Шолома с Авремлом узнал дядя Ица и сейчас же донес об этом бабушке. Бабушка подозвала Шолома к постели, дала ему грушу, которую достала из-под подушки, и сказала твердо, чтоб он не смел больше водиться и даже встречаться с такими мальчишками, как Авремл, – если дедушка об этом узнает, будет бог знает что.
Легко сказать «не встречаться». Ведь с этим Авремлом так или иначе приходилось встречаться не меньше двух Раз в день – утром и вечером, при чтении поминальной молитвы. Авремл – тоже сирота. Он читает поминание по своему отцу в старой синагоге. Сколько там поминающих! И все стоят у восточной стены! Когда Мойше-Иося Гамарницкий впервые пришел со своими внуками в старую синагогу, он подвел их прямо к служке и твердо заявил ему, что их место во время поминания должно быть у самого амвона, так как это дети порядочных родителей… Служка, старик с согбенной спиной и больными трахомой, словно в красной оправе, глазами, почтительно выслушал деда и, не отвечая ни слова, втянул в нос порядочную понюшку табаку, поспешно отряхнул пальцы, затем поднес табакерку дедушке и, постучав ногтем по крышке, без слов предложил ему понюхать. Это должно было означать: «Хорошо, что вы мне сказали. Если это дети порядочных родителей, я буду их беречь как зеницу ока, будьте уверены».
Богуславская синагога обладала такой притягательной силой, что переяславские сироты, как их там называли, привязались к ней, как будто они родились и выросли в Богуславе. Все в этой синагоге казалось им величественным, прекрасным и священным. На ней лежала печать старинной красоты, древней святости, в ней было нечто от Иерусалимского храма.
Но если переяславские сироты даже в будни видели в богуславской старой синагоге нечто вроде храма, то в дни покаянья она стала совершенным его подобием. Они никогда еще не видели такого множества молящихся. Здесь были не просто хасиды, но и хабадники,[42] которые бог знает что вытворяли во время молитвы – всплескивали руками, прищелкивали пальцами, затягивали странные мелодии, завывали, распевали «бим-бам-бам», заливались, захлебывались в исступлении на несколько минут, а затем снова завывали и щелкали пальцами. Для переяславских ребят такой способ молиться был новостью. Они смотрели на это, как на спектакль. Но любопытней всего то, что их дедушка перещеголял всех молельщиков в старой молельне, хотя был не хабадником, а только хасидом, но со своими особенными повадками, обычаями и своими сумасбродствами. По субботам и по праздникам он обычно оставался в синагоге позже всех. Дядя Ица, который жил в другой половине дома, уже давно сидел за столом. Из печи доносился запах фаршированной рыбы и праздничных яств, так что ныло сердце и сосало под ложечкой, а дедушка все еще молился, пел и прищелкивал пальцами. Бабушка Гитл уже несколько раз втихомолку подсовывала внукам по куску коржа, чтоб хоть немножко заморить голод, и говорила со смешком:
– Уж будете помнить, что жили среди сумасшедших…
Дядя Ица меж тем, кончив ужинать, совершил благословение и высунулся из своей половины:
– Отца нет еще?
Мало того что он уже поел, он еще издевается. Но наконец-то бог смилостивился – дедушка явился. Он влетел в комнату с торжественным приветствием, волоча капоту рукавами по зеглле. Он начал освящение трапезы такими громкими возгласами, которые, наверно, слышны были на соседней улице.
– Ради детей, ради бедных сирот, ты мог бы, кажется, оставить свои сумасбродные выходки и вести себя по-человечески, – заметила ему бабушка.
Какое там! Все напрасно! Дедушка ничего и не слышал. Он все еще был в экстазе, витал где-то далеко, в ином мире. Одной рукой он подносил еду ко рту, а другой перелистывал какую-то старую книгу и, легко покачиваясь, заглядывал в нее одним глазом, другим же посматривал на внуков и тяжко вздыхал. Вздохи эти относились к сиротам, чьи души погрязли в земном и, поддаваясь духу зла со всеми его соблазнами, заняты только едой. После ужина он упрекнул их в этом, прочитал длинное нравоучение, так что еда стала у них поперек горла: и фаршированная рыба со свежей халой, и сладкий цимес с пастернаком, и все прочие праздничные яства, которые разбитая параличом бабушка только при ее уме смогла приготовить наилучшим образом.
Это в Новый год. А в канун судного дня было еще интересней. Канун судного дня у дедушки в Богуславе отличался двумя редкими церемониями, которые произвели на сирот особенно сильное впечатление. Первой церемонией был обряд «капорес» – в ночь перед кануном судного дня; обряд «капорес» они совершали и дома, но здесь, в Богуславе, все было по-иному. Бабушка Гитл взяла дело в собственные руки. Она сама совершала обряд «капорес» с детьми своей дочери. Подозвав к постели всю ораву, она дала каждому искупительную жертву – мальчикам по петуху, а девочкам по курице, открыла свой большой молитвенник и указала скрюченными пальцами нужную молитву. Старшие читали молитву сами, а младшие, девочки, повторяли за бабушкой слово в слово, громко, нараспев: «Сыны человеческие, пребывающие во мраке и во тьме, скованные нуждой и железом». Бабушка при этом плакала так, как плачут по покойнику. Когда же черед дошел до самой младшей сиротки, до годовалой девочки, бабушка чуть не лишилась чувств. Глядя на нее, расплакались маленькие, а глядя на них, и старшие. Комната наполнилась рыданиями. В ту горькую субботу, когда мать их, покрытая черным, лежала на полу, дети не пролили и десятой доли слез, пролитых ими теперь.
Вторая церемония произошла на следующий день, накануне судного дня, по возвращении из старой молельни, где ребята получили от главного старосты синагоги пряники и набили ими полные карманы. Дедушка еще накануне, после обряда «капорес», приказал детям, чтобы они после утренней молитвы пришли к нему для благословения.
Дедушка был удивительно нарядно одет и празднично настроен. Поверх старой износившейся атласной капоты он напялил кацавейку из какой-то странной, очень жесткой и шумной материи, которую в наши времена не достать ни за какие деньги. На голове у него была круглая меховая шапка с хвостиками, а на открытой шее – широкий белоснежный воротник с острыми концами. Капота была подпоясана широким поясом с длинной бахромой и помпонами. Ужасающе огромные усы и густые брови выглядели на сей раз не так строго, и все лицо дедушки казалось теперь мягче, приветливей, всепрощающим.