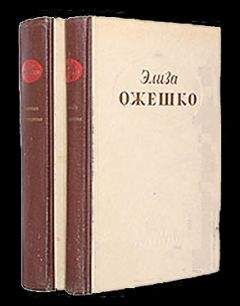Франка, хоть и смотрела в окно, не заметила этой сценки на соседнем дворе. Она была поглощена своими мыслями и долго молчала. Наконец, когда в избе уже начало темнеть, она выпрямилась и усталым движением заломила руки над головой. Ее большие глаза, черневшие под мокрой тряпкой на лбу, полны были безнадежной печали.
— Ох, Марцелька, милая моя! — промолвила она тихо. — Так меня грызет что-то… тяжко мне на свете жить!
— С чего бы это? Чем тебе плохо? — удивилась нищенка.
— А чем хорошо? — отозвалась Франка. И, сидя в той же позе, с заломленными над головой руками, продолжала: — Видишь, он хоть и добрый, а деликатного обращения не понимает. Ни уважить меня, ни говорить так, как мне нравится, не умеет. И в грубой одеже ходит… И такой он… уж не знаю, как тебе сказать…
Она подумала немного.
— Известно, мужик… какой бы ни был хороший, а все-таки — мужик!
И она договорила еще тише:
— И такой уж он теперь старый… старый!
Миновала пора сенокоса и жатвы. Многое произошло за это время в двух стоявших рядом избах. Когда косили луг Филиппа за деревней, Павел вышел как-то утром из своей избы, посмотрел на небо и сказал зятю, который нес в хлев солому:
— Ты, Пилип, поскорее свези сено с луга, а то не сегодня-завтра господь дождик пошлет. И по ветру заметно, что зарядит надолго.
В предсказания Павла насчет погоды Филипп свято верил. Он поспешно стал запрягать лошадь в телегу, а Данилке велел приготовить вилы и грабли. Ульяна оставалась дома, чтобы, если какому-нибудь проезжему понадобится паром, перевезти его через реку. В эту пору Неман всегда мелел и течение было очень медленное. Весною даже и мужчинам вдвоем трудно было управляться с паромом, а сейчас это было под силу и одной Ульяне. Если же перевозить пришлось бы пару лошадей или тяжелый воз, — то Павел, который сегодня собирался ловить рыбу недалеко от берега, мог быстро прийти сестре на помощь.
В то время как они сговаривались об этом с Филиппом, запрягавшим лошадь, из-за спины Павла появилась Франка и сказала, что она тоже поедет на луг сгребать сено. Дома она уже все сделала — еды наварила на весь день, корову подоила — и теперь хочет помочь Филиппу с уборкой.
На Франке была сегодня белоснежная рубаха, голубая ситцевая юбка и розовый передник. Черные волосы, выбиваясь из-под пестрого платка, падали на лоб и плечи. Она была как-то особенно оживлена, глаза ее и белые зубы весело сверкали. Филипп встретил ее предложение ироническим смехом:
— От твоей работы разве только черту будет потеха!
Но за Франку вступился Данилко:
— Пусть едет. Втроем все-таки полегче, скорее кончим.
— Пусть, пусть едет! Покажете ей раз-другой, как граблями ворочать, так авось сумеет. Все-таки хоть немного поможет, — решил Павел.
Франка села в телегу с Филиппом, а Данилко пошел пешком другой, короткой дорогой. Но едва немного отъехали от дома, Франка соскочила и побежала к шедшему межой Данилке.
— Эге! — крикнула она Филиппу, убегая. — Мы той дорогой скорее дойдем, чем ты доедешь!
Возвратясь вечером с луга, Филипп с удивлением рассказал жене, что «эта шальная» довольно ловко сгребала сено и в самом деле немного помогла им.
— Если бы не лень, она бы с любой работой справлялась, — заключил он.
— Да, она, когда захочет, все сумеет. Такая проворная! — вставил Данилко, набивая рот хлебом. Он то и дело поглядывал в окно на Франку, хлопотавшую у себя во дворе, и глаза у него, как у кошки, загорались зеленоватым светом.
С этого дня Франка часто ездила с Козлюками в поле. В жатву она ходила с серпом на их загоны и, хотя не могла жать так неутомимо и ловко, как Ульяна, потому что не хватало сил и сноровки, — все же много помогла им. Филипп в это время работал на другом участке своего небольшого поля или был занят дома и на пароме, а Данилко и обе женщины жали и свозили снопы в амбар. Франка и Данилко часто ездили домой вдвоем на доверху нагруженном возу, потом возвращались в поле и снова принимались за работу. Франка, хоть и жаловалась на жару и боль в пояснице, была весела, говорлива и, как никогда, проворна и усердна в работе. Ульяне она всячески угождала, называла ее «золотой и брильянтовой», беспрестанно целовала ее малышей и нянчилась с ними, а уж к Данилке липла, как муха к меду! Долго никто не придавал этому значения. Если она дурачится и шутит с мальчишкой, а в воскресенье куда-то исчезает с ним вдвоем, на несколько часов, что же из того? Хоть она как будто и остепенилась, и работать стала охотнее, и не досаждает, как оса, — все-таки всю дурь из головы сразу не выкинешь! Женщина она немолодая, а иной раз глупее малого ребенка. Данилко тоже еще ребенок — вот они друг другу и под стать. Хорошо уже и то, что она опомнилась, трудится, людям помогает и со всеми приветлива. Ведь жить в таком близком соседстве с ведьмой совсем не сладко! Так пусть себе чудит, бог с ней, — только бы не злобствовала! Так рассуждали Козлюки.
Теперь Ульяна опять дружелюбно относилась к невестке, все чаще брала к себе Октавиана и старалась отблагодарить Франку за помощь в поле всякими услугами по хозяйству: то хлеб для нее замесит и испечет, то белье в реке выполощет и вальком выколотит, то принесет с реки воду — одно ведро себе, другое Франке.
Так три долгих месяца эти люди, чья чистая жизнь проходила в тяжких трудах, ничего не замечали, и никакие подозрения им в голову не приходили. Ни малейшая тень порока не затмевала им яркий свет солнца, в котором они купались целые дни, ни одна капля грязи не тяготила их совести, когда они засыпали утомленные и крепко спали всю ночь.
А Павел все это время выезжал далеко на ловлю и, возвращаясь после долгих отлучек, заставал Франку за работой, веселую, принаряженную, в белой, как снег, рубахе и розовом фартуке. Правда, она часто отвечала ему грубо и ворчливо, иногда отталкивала его с нескрываемым отвращением, но Павел приписывал это остаткам дьявольских искушений, которых еще не побороли молитвы и увещевания. «Пусть уж будет, какая хочет, только бы честно жила», — говорил он себе и брал на руки Октавиана, давал ему привезенные из города баранки. Он все крепче привязывался к ребенку, все нежнее любил и баловал его. Играя с ним и лаская его, он не обращал внимания на сердитое брюзжание Франки и злые слова, которые по временам вырывались у нее, — тем более что к ней скоро возвращалось хорошее настроение, и тогда она разговаривала с ним дружелюбно, наполняла избу болтовней и смехом; особенно любил Павел ее смех.
Все эти три месяца ни единая тучка не омрачала его существования, ничто не теснило свободно дышавшую грудь и не мешало ему спать по ночам крепко и спокойно.
Вдруг в конце одного августовского дня в избе Козлюков забурлило, закипело, как в котле. Крики взрослых и рев детей сливались в адский шум. Филипп колотил брата.
Было это в сумерки. Неизвестно, как и от кого Филипп узнал о том, за что он сейчас бил брата, но неожиданное открытие предстало перед ним в такой бесстыдной и грубой обнаженности, что потрясло до глубины души даже этого сильного и простого человека. До сих пор он никогда не обижал младшего брата, но сейчас словно озверел: лицо его было искажено яростью, и он исступленно колотил парня, одной рукой держа его за шиворот.
— Содом и Гоморра! — кричал он. — Ведь из-за тебя божий гром нам хату спалит. Ведь он тебе как родной дядя, на руках тебя носил, уму-разуму учил! А ты вот как его отблагодарил! Ты с его женой… тьфу! За плуг, за цеп! Работай! Я тебе покажу, как с бабами пакостничать! Хочешь кару божью на нас и детей наших навлечь? Вон, сейчас вон из дома! Слышишь? Хоть бродяжничай, хоть в батраки нанимайся, а здесь чтоб духу твоего не было! Пропадай ты пропадом, а из моего дома вон! Вон! Вон!
Выкрикивая все это, Филипп бил брата и толкал его к двери, но тот хотя и был слабее его, сопротивлялся изо всех сил. Ульяна голосила и ломала руки, дети ревели. Наконец Данилке у самого порога удалось вырваться из рук брата, и, красный, как пион, в разорванном на плечах кафтане, он, сверкая глазами, дерзко закричал:
— Никакого права не имеешь меня из хаты выгонять! Она моя так же, как твоя! Мы одного батьки дети!
— А кто тебе батькой был? — опять бросаясь на него, гаркнул Филипп. — Я тебе батькой был, когда ты малым сиротой на моих руках остался! Для того я тебя кормил и растил, добру учил, чтобы ты Содом и Гоморру из нашего дома сделал? Я тебя проучу, будешь помнить! Я тебе покажу, как…
И вместе с градом отвратительно бесстыдных и грубых слов на голову и спину Данилки снова посыпались удары. Оба яростно боролись у двери. Ульяна, заливаясь слезами, пыталась их разнять, дети вопили уже благим матом, за печью отчаянно кудахтали разбуженные куры, и даже Куцый завыл под лавкой, а серый кот (на него то ли кто-то наступил, то ли он просто испугался) бешено мяукал и метался по избе, не зная, куда удрать. И в эту самую минуту вошел Павел.