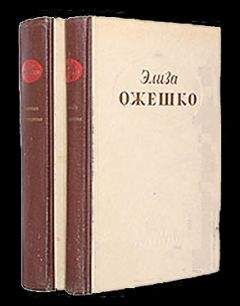И вместе с градом отвратительно бесстыдных и грубых слов на голову и спину Данилки снова посыпались удары. Оба яростно боролись у двери. Ульяна, заливаясь слезами, пыталась их разнять, дети вопили уже благим матом, за печью отчаянно кудахтали разбуженные куры, и даже Куцый завыл под лавкой, а серый кот (на него то ли кто-то наступил, то ли он просто испугался) бешено мяукал и метался по избе, не зная, куда удрать. И в эту самую минуту вошел Павел.
Он возвращался с реки и на полдороге услышал крики в хате Козлюков. Встревоженный и удивленный, он торопливо направился к ним.
Увидев брата в дверях, Ульяна, охваченная жалостью к нему или, быть может, страхом, что теперь они лишатся его расположения, с громким плачем упала ему в ноги. Данилко, оттолкнув Филиппа, выскочил в сени, а Филипп, взъерошенный, с лицом, пьяным от бешенства, обернулся к Павлу и все рассказал ему теми же грубыми, бесстыдными словами, какими перед этим корил парня за то, что было в его глазах тяжким преступлением. Рассказ этот занял не более трех минут, и, когда Ульяна, еще стоя на коленях, закричала: «Молчи, Филипп! Ох, Филипп, что ты делаешь! Молчи!» — было уже поздно: Филипп успел все сказать, и Павел вышел из хаты.
Он направился к себе не двором, а перешагнул через низенький плетень в огород и прошел по грядкам, топча густую зелень. Он был бледнее полотна и дрожал как в лихорадке, глаза метали молнии. Буря, какую могут вызвать только гнев и ревность, шумела в его мозгу, терзала нервы, рвала на части тот кусочек плоти, который бьется у человека в груди и называется сердцем, и почти лишала рассудка. Шатаясь, как пьяный, он прошел через сени. С грохотом распахнул дверь. В хате, у печи, в темной глубине которой светились раскаленные уголья, стояла Франка. Она так согнулась и съежилась, что казалась меньше ростом, и крепко прижимала руки к груди, а лицо ее, освещенное огнем, казалось в полумраке красным, как кровь.
Она отлично знала, что произошло в доме Козлюков, и видела в окно, как Павел вошел туда и с каким лицом он оттуда вышел. Ей было страшно, но еще больше — стыдно. Тот стыд, который она испытала, когда после почти трехлетних скитаний вернулась к Павлу, был ничто в сравнении с тяжелым, жгучим стыдом, который мучил ее сейчас. Потому-то она и сжалась вся и лицо ее пылало, как жар в печи. Как только Павел перешагнул порог, она протянула к нему руки и крикнула:
— Не верь ты им, Павелко, не верь, это неправда… Они это нарочно…
Первый раз в жизни Франка лгала — и не со страху, а от стыда. В эту минуту она отдала бы полжизни за то, чтобы он поверил ее лжи. Но Павел шагнул к ней и, не говоря ни слова, не переводя дыхания, железными пальцами сжал ее руку у плеча. Франка пронзительно крикнула и согнулась до земли под сыпавшимися на нее ударами кулака. Она крикнула еще несколько раз — и вдруг почувствовала, что плечо ее освободилось от железных тисков и что она одна в избе. Павел вышел теми же большими шагами, как вошел, шатаясь, со струйками пота на лбу. Обойдя избу, он припал лбом к ее задней стене, выходившей на косогор, и зарыдал. Взрыв гнева и ревности, заставивший его там, в темной избе, поднять руку на корчившуюся у его ног женщину, уже утих, все растворилось в щемящей сердце боли, жалости к себе, к Франке, обиде за то человеческое, доброе, святое дело спасения, которое дважды озарило его душу небесным светом — и кончилось ничем. Сжав руки, припав лицом к шероховатой стене, он отрывисто бормотал, захлебываясь слезами:
— Нет, видно, не будет ей спасения, а мне счастья на этом свете!.. Что делать? Боже милостивый, что теперь делать?
Час спустя он уже плыл в своем челноке, мелькавшем темной точкой на сальной груди Немана под загоравшимися на небе звездами. За лодкой бежала серебряная дорожка, и жемчужный плеск струи сливался с вечной монотонной песней реки.
Всю эту ночь провел Павел на воде, а может быть, в каком-нибудь уединенном месте на берегу под старой вербой или дрожащей осиной.
А в хате, где он оставил Франку лежащей на полу, часа через два после его ухода шепотом велся в темноте разговор, прерываемый стонами и вздохами.
— Ай-ай! Побил! Скажи на милость! Видно, сильно ревнивый, если драться начал! Никогда этого за ним не водилось, чтобы он на кого руку поднял. Такой смирный мужик, такой добрый… а дерется!
Лежавшая на постели фигура зашевелилась, и в темноте раздался стон.
— Чтоб ему господь никогда этого не простил, как я не прощу! — резко выкрикнул женский голос. — Не прощу! До смерти не забуду! Срам! Ох, какой срам! Вот до чего я дожила, вот чего дождалась! На то ли меня мать родила, чтобы мужицкие кулаки по моей спине гуляли! Ведь я из благородной семьи, у дедушки свои дома были, мать образование получила, и двоюродный брат у меня богач, живет не хуже любого пана… а мне вот какая судьба выпала! Накажи его бог за меня! Чтоб ему ни на этом, ни на том свете добра не было!
Так она роптала, проклинала Павла, по временам плакала по-детски жалобно, а то вдруг, как фурия, срывалась с постели, рвала на себе волосы, колотила себя в грудь.
— Хватит, отблагодарила я его за доброту, заплатила синяками и срамом! Помнила я эту его доброту, и оттого мне так стыдно было перед ним, что, кажется, живьем бы под землю ушла, только бы ему в глаза не смотреть. А теперь уже я ничего не стыжусь! Ничего! Если ему можно меня бить, так и мне можно делать, что захочу! Ушла бы я опять, если бы не Данилко, — бросить его жалко. А может, и уйду… Вот возьму да и сбегу…
— А Ктавьян? — откликнулся хриплый голос из темневшей на полу кучи лохмотьев.
— Черт с ним! Ничего не жалко, пусть все прахом идет! — вспылила Франка, но вдруг замолчала и только через минуту неуверенным тоном сказала: — А что? Оставлю тут…
Но, ощутив у своих босых ног тепло детского тела, она снова заколебалась:
— Уж не знаю… — зашептала она, — Тут ли мне его оставить… или с собой взять… Да притом и Данилки жаль… Ох, Марцелька, если б ты знала, как он мне люб!.. Какой он ласковый! А ты не видала его, когда сюда шла, а?
— Как не видеть? Видела. Нарочно зашла к ним, чтобы посмотреть, что с хлопцем, как он там, бедняга…
— Ну и что? Что? — торопила ее Франка. — Говорил он с тобой? Может, велел передать мне что-нибудь?
— Ничего не говорил и передать ничего не велел, — ответила Марцеля. — Известно, дитя еще: брат поколотил, вот он сидит и ревет… Что же ему еще делать?
Франка прерывисто вздохнула.
— Вот ведь и он мужик, а не такой, как все эти хамы… Молоденький, пригожий и еще грубости этой от других не перенял…
— А ты когда-то и про Павла то же самое говорила — что он хоть и мужик, а не такой, как все…
— Накажи его бог за то, что он меня так обманул и соблазнил! Прикинулся добрым и обходительным, а теперь показал, кто он таков! Если бы я тогда, ума лишившись, за него не вышла, я бы теперь могла с Данилкой обвенчаться…
Марцеля так и ахнула.
— Опомнись, миленькая, что ты городишь! Да ведь он дитя в сравнении с тобой, он тебе в сыновья годится!.. Ах, чтоб тебя! Смотрите, что придумала! Господи Иисусе, бабе в сорок лет за такого сопляка выходить!
Старуху душил неудержимый смех. Боясь рассердить Франку, она старалась его заглушить и зажимала рот ладонями. А Франка, закинув руки за голову, сказала немного обиженно:
— Что ж из того, что я его старше? Вот я у одной пани служила, так она постарше меня была, а муж молоденький — и еще как он перед ней выплясывал и во всем ее слушался! Чего только не бывает на свете, ой-ой! Ты, может, думаешь, что Данилко не захотел бы на мне жениться? А я тебе говорю — захотел бы! И еще как захотел бы!
— Это он тебе сам сказал? — спросила Марцеля.
— Говорить не говорил, да я знаю…
Старуха, сидя у ее постели, все еще тряслась от сдерживаемого смеха, но через минуту заговорила льстиво, певучим голосом:
— Да как же ему не хотеть? Кто не захотел бы такой красавицы? И пригожая ты, и веселенькая, и проворная, как белая козочка на лугу, а нежная, словно царевна какая…
— Вот видишь! — подхватила Франка. — Да что же делать, когда этот мужик, грубиян, медведь, по рукам и ногам связал меня! Разбойник этакий, кровопийца!
Она опять заметалась, села на постели и запустила руки в волосы. Когда она заговорила, горячо и стремительно, ее шипящий голос наполнил все углы темной избы.
— Разлюбила я его давно… такой вол, медведь… нудный, старый… а уж теперь, когда он посмел руку на меня поднять, еще во сто раз больше не терплю его… ненавижу! Так ненавижу, что, кажется, убила бы, своими руками задушила…
— Тсс! — с ужасом зашикала на нее Марцеля. — Еще войдет ненароком и услышит.
— Не придет! Его теперь всю ночь по реке черти носить будут! Уж я его привычки знаю… А если бы и услышал, так что? Я ему сама все скажу. Пусть знает, как обижать женщину из хорошей семьи!
Она судорожно зарыдала, а немного успокоившись, попросила Марцелю намочить тряпку в холодной воде и подать ей, потому что голова у нее так разболелась и в ушах так шумит, что она, кажется, сейчас умрет.