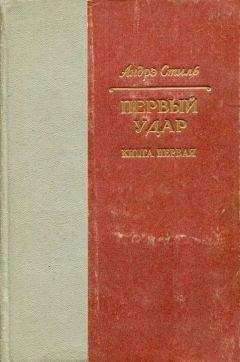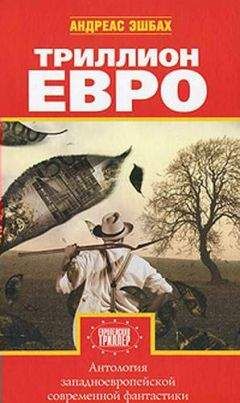— Правильно, — отвечает Анри. — И, возвращаясь к Роберу, надо еще сказать, что ему приходится слышать в порту всякие разговоры. Конечно, воля к борьбе у ребят есть и выдержка тоже есть. Представь себе положение рабочих, которые не прекращают забастовку в течение полугода, — вот примерно так же живется и нашим докерам. Именно эти трудности приводят к тому, что некоторые товарищи начинают путать. Надо послушать, что они подчас говорят, а если не говорят, то, очевидно, думают. Ты, конечно, знаешь Сегаля, он ведь член партии. Позавчера на разнарядке он сказал: «Если сейчас придет судно для Вьетнама, я, пожалуй, не стану особенно возражать против погрузки, потому что это все-таки меньшее зло, чем янки с их оружием». И в качестве объяснения добавил: «Ребята дошли до последнего. Если мы и впредь будем отказываться от работы, люди в конце концов так изголодаются, что иные могут не выстоять, когда сюда придут американские пароходы». Хорошо, что его всего четверо-пятеро слышали. Понимаешь, чем это пахнет? Конечно, мы с ним поговорили как следует и прежде всего растолковали, что где бы ни была война, во Вьетнаме или еще где, это дело рук американцев. Но если такому вот Сегалю приходят в голову подобные мысли, значит, не так-то все просто, как кажется…
— Нищета иногда может сбить человека с толку не меньше, чем вражеская пропаганда.
— Ведь нашим товарищам и, пожалуй, в первую очередь именно им очень нелегко сохранить перспективу. Надо знать, в каких условиях они живут: голод, холод, разваленные лачуги, грязь. Тут требуется немало мужества. Недавно я был у казначея нашей ячейки Жерома Бувара. Живет он прямо в халупе, стены, как губка, насквозь пропитались жидкой грязью. Человек действительно гибнет. А с другой стороны, хоть наша ячейка небогатая, но в кассе у нас примерно тысяча франков. Это же целое богатство по сравнению с тем, что есть у Бувара. А что ни говори, когда дети голодают, жена плачет, кажется немыслимым, чтобы хоть раз соблазн не закрался в душу. Конечно, ты понимаешь, что Бувару ни разу и в голову не пришло прикоснуться к этим деньгам. Из предосторожности он носит ключ от шкатулки с собой. Бувар как-то попросил меня захватить из секции марки для членских взносов и решил сосчитать, сколько у него осталось денег. Никогда не забуду, как он открыл свою шкатулку, в которой хранились деньги партии — в пачках, аккуратно уложенные, — будто святыня, и как вместе с нами смотрела жена Бувара. Для него ценность этих денег определяется не их суммой.
— Тысяча франков это, пожалуй, многовато, чтобы держать их под спудом. Необходимо пустить их в ход. Иначе они ни к чему, только мучают твоего Бувара, а это нехорошо.
— Не беспокойся, там уже теперь чуть-чуть осталось: помещение для собрания, листовки — все стоит денег. Нынче тысяча франков быстро расходится.
— Я это сказал потому, что вспомнил казначея нашей секции. Он готов деньги в землю зарыть, как клад. По-моему, даже вредно пользоваться словом «казначей». А то некоторые ребята воображают, что казна — это то, что должно всегда лежать под замком. Как хочешь, это все-таки скупость, хотя деньги они не для себя копят. Даже смешно. Ты должен отучить нашего казначея от этой привычки. Когда нужно отпечатать плакат или листовки, приходится чуть ли не драться с ним.
— А теперь плакаты и листовки — это очень важно. Люди уж привыкли, ждут наших лозунгов, наших надписей на стенах. Это даже вошло в быт. Когда наклеивают «Юманите», сейчас же собирается народ, и куда больше, чем перед витринами продажных газет. Я лично сторонник плакатов, по-моему, их нужно расклеивать как можно больше. Между прочим, я говорил в федерации, чтобы выпустили специальный плакат для соседней деревни, поскольку туда тоже вторглись американцы. Партийная организация от этого только выигрывает: сознание, что весь народ интересуется нашей работой, воодушевляет товарищей. Например, знаменитая надпись на шлюзной камере, ты ведь сам слышал, как об этом говорили. Люди прямо заявляли, что у них сердце радуется. После этого и на собрания идут охотнее. Шлюзная камера — это был подвиг. Говорят даже, что когда утром пришли инженеры, один заявил: «Вот дьяволы! Ручаюсь вам, что без лесов такую надпись сделать немыслимо». Воображаю, что они запоют послезавтра, когда увидят надпись на базе подводных лодок!
На губах Жильбера появляется слабая улыбка.
— Что ж, хорошо, старик! — говорит он.
— Кстати, — продолжает Анри, — я сейчас тебе расскажу об одном случае, который доказывает, что действительно активность растет. Ты помнишь Папильона? Знаешь, что он вышел из партии?
— Еще бы не знать! Ведь это произошло после нашего спора с ним.
— Представь себе, что с некоторого времени на стенах стали появляться надписи смолой или краской и пишутся они не по поручению ячейки. Расспросили докеров — кто пишет? Оказывается, никто ничего не знает. А однажды неподалеку от поселка, над самым шоссе, на телеграфных проводах повисло чучело с надписью: «Эйзенхауэр». Придумано здорово, а главное, очень просто — на одном конце веревки привязан болт в качестве противовеса, а на другом — само чучело. Веревку забросили на провода так, чтобы она обкрутилась вокруг них несколько раз. Словом, сразу никак и не сорвешь, и полицейским пришлось пригнать аварийную машину. Однако это тоже была не наша работа. Но что касается надписей, то, к сожалению, политически они не всегда правильны; надпись: «Американцев — в нужник!» — наверняка писал не коммунист. Ведь это грубо и не убедительно: ничему не помогает. Иной раз мне даже кажется, что это дело рук провокатора.
— Возможно, что и так. Я сам читал где-то: «Ребята, бей американских гостей». Понимаешь, куда они клонят? И это в нынешней обстановке…
— Должен тебе сказать, немало есть докеров, у которых при встрече с американцами руки чешутся.
— Провокаторы как раз это и учитывают, пытаются использовать в своих целях. Не можем же мы ребятам руки связать. Это их дело. Представь себе, что где-нибудь дойдет до драки, наш парень вздует американца и швырнет его в море. Не так-то легко удержать человека в такую минуту. Тем паче, что американцы сами ищут предлога для стычек, ведут себя нагло. Столько накопилось гнева в сердцах людей, что он не может не прорываться наружу. Но наши лозунги другие. Ты же знаешь, наш лозунг, лозунг коммунистов — организованная борьба масс.
— Но в том случае, о котором я хочу тебе рассказать, надписи были совсем неплохие. Наоборот. Ночью, когда наши ребята малевали, они столкнулись как раз с таким проявлением индивидуального творчества. И знаешь, кто это был? Папильон. На следующий день я с ним побеседовал. Папильон утверждает, что он не может забыть, как ты его обидел. Он не хочет возвращаться в партию. Но очень хочет работать с нами. Он даже заявил: для партии лучше, чтобы такелажники были сами по себе.
— А ведь он правильно сказал, что я его обидел, — подтверждает Жильбер. — Это действительно моя ошибка. Надо всегда помнить, что перед тобой живой человек. Одно дело — сказать на собрании, откровенно объясниться, обсудить вопрос, но если то же самое сказать мимоходом, перед посторонними, где-нибудь в столовке, на том основании, что ничего, мол, секретного в наших разговорах нет, получится неловкость, хотя бы и был ты руководим самыми лучшими побуждениями. Верно, у партии нет секретов, но у того или иного товарища могут быть свои личные дела, и вовсе незачем касаться их при всех. Мы сидели в нашей пивной, человека три-четыре. Выпили бутылку красного, разговорились. И, слово за слово, перешли к некоторым деликатным вопросам, которые волнуют многих; конечно, затронули вечную проблему о наших такелажниках: не кажется ли им все-таки, что они заедают чужой кусок, и почему, собственно, они против предоставления работы в порядке очереди — по убеждению или скорей из соображений личной выгоды? Как видишь, вопрос щекотливый и нельзя его решать с налету. Кроме того, пивная не место для таких разговоров. Папильон превратно понял мои слова. А ты сам знаешь, какой это порох!
— И все-таки он хороший малый. Сейчас он опять рвется к делу. Он, между прочим, будет участвовать в нашей ночной вылазке на базу подводных лодок. Непременно решил с нами идти. Просто помешался. Боюсь, как бы он не проговорился кому-нибудь, из хвастовства. Я его предупредил, чтобы он молчал. Но язык у него, как известно, длинный.
— Ты, Анри, сообщи ему, что ты обо всем рассказал мне, дай ему понять, что я ничего против него не имею. Он ведь меня обозвал интеллигентом, как тебе это нравится! Так и передай ему: Жильбер, мол, велел тебе сказать, что теперь ты, оказывается, сам стихи сочиняешь да еще их на стенах пишешь.
Жильбер вдруг устало замолчал, тело его тяжело сползло с подушек; худые руки бессильно были сложены на груди, дыхание стало прерывистым.
— Я тебя совсем заговорил! Сейчас ухожу.