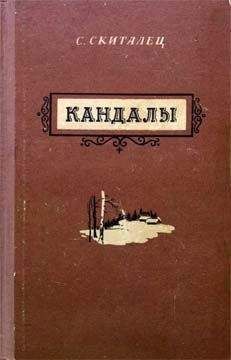Но густые басы со спокойно-шутливой усмешкой, как волной, покрыли его:
Грянем, грянем мы, ребята…
Эх, по раз-до-о-лью!
Серебром отливая, слились, наконец, глубокие звуки с самыми тонкими и поплыли стройно затихающим аккордом в бескрайную речную даль.
С другого края поймы, около деревни, из затопленного леса, где зеленые дубы, дивясь на себя, стояли по пояс в играющей бурливой быстрине, где сновали лодочки-байдарки, давно уже заливалась саратовская гармонь с ладами да колокольцами серебряными, перекликались между собой волжские песни, весенние песенки:
Как по Волге пароходы —
Ровно лебеди плывут…
Каждая песня, не кончившись, обрывалась: ее заглушала другая. Выплыла нежная, улыбчивая песенка:
Пароход бежит, Анюта,
Сирень цветет,
Его белая каюта…
И обрывалась на время, покрытая переборами гармошки-«итальянки»:
Кто-то тонет на реке
С «итальяночкой» в руке…
Стон стоял от нежно-любовных песен в лесу с переполненных певцами и певицами байдарок. Опять вынырнула «улыбчивая»:
Над каютой голубь вьется,
Сирень цветет!
У Анюты сердце бьется…
Не слышно конца удаляющихся вглубь леса песен:
Волга-матушка бурлива, говорят,
Под Самарою разбойнички шалят,
Да в Саратове девицы хороши!
Не забудь меня ты, девицы-души!
Сирень цвела кругом. В песнях воспевалась любовь и разлука. На волнах качались букеты ландышей, широкие лопухи пловучие, сорванный пышный папоротник, цветущий волшебным цветом счастья только под Ивана Купалу, в полночь.
И вдруг с девичьей лодки, обвитой гирляндами водяных цветов и голубых кукушкиных слезок, горевшей на солнце ярким самоцветом праздничных нарядов — алой зари, кумача огневого да нежной сирени — зазвучал, все и всех покрывая, далеко слышный по воде свирельный голос Груни, певший протяжную, за сердце хватающую песню:
Прощай, жизнь, радость моя,
Уезжаешь от меня!
Нам должно с тобой расстаться,
Тебя мне больше не видать!
Все дальше и тише уплывал в затопленный лес вместе с удаляющейся лодкой ее голос:
Я тогда тебя забуду,
Как закроются глаза,
Уста кровью запекутся,
Перестанут целовать!..
XII
Трофим Яковлич Неулыбов, богатей-тысячник, строивший паровую мельницу, имевший фруктовый сад в двадцать десятин, ведший хлебную торговлю в компании с кандалинским воротилой Завяловым и водивший знакомство с самим Шехобаловым, решил женить своего приемного сына Федора, которому даже не было полных шестнадцати лет.
Как человек старого уклада, Трофим Яковлич образование дал сыну маленькое — в сельской начальной школе, чтобы от большого образования бога не забыл и не ушел бы в городской мир из родного сельского гнезда, а женить парня так рано решил тоже по своим понятиям — «чтобы не избаловался»: дурной пример был перед глазами — прошел слух, будто Кирилла Листратова арестовали в Петербурге. Трофим сам поехал в губернский город к архиерею Серафиму просить особого разрешения на ранний брак сына.
Знал и помнил архиерей церковного радетеля и друга старого протопопа — Неулыбова, не отказал в просьбе.
Была и еще причина такой спешки, самая главная: боялся Трофим упустить подходящую невесту для сына — из хорошего, зажиточного дома, дочь Василия Листратова — Груню, оттого и решено было сыграть свадьбу в этот же мясоед.
В начале осени просватали Груню за Федора, устроили смотрины, рукобитье, и начались знаменитые неулыбовские свадебные пиры, в которых принимала участие целая толпа родных и друзей: все три дома Листратовых за вычетом уехавшего Кирилла, Завялов, Челяк, Оферов и множество других гостей.
Эти нескончаемые, многолюдные пиры походили на древнеславянские пиршества, так много на них пили и ели.
Не пожалел Трофим золотой казны на свадьбу любимого единственного, хотя и приемного, сына.
В верхнем этаже его полукупеческих хором пили вместо водки заграничный дорогой коньяк — и не рюмками, а стаканами, серебряными чарками, кубками и ковшами, вынутыми на этот случай из подземной кладовой под каменным домом.
С первого же дня пира вся орава гостей и родни не расставалась, пьянствовала гурьбой, переходя по очереди из дома в дом друг к другу, переезжая свадебным «поездом» из Кандалов в Займище и обратно.
По пьяному делу многие обморозились, изувечились, певун Оферов так застудил уши, что сразу оглох, но продолжал пировать. Веселились жестоко: кто-то кому-то «шутки ради» напрочь откусил нос. Пьяного, спавшего мертвым сном, Челяка, ворвавшись в его дом, схватили прямо с постели и повезли на другой конец села к Неулыбовым, где происходил неизвестно в который раз очередной пир. По дороге встретили татарина и долго приставали к нему, предлагая купить «пьяную свинью». Пока доехали — раздетый и все еще спавший Челяк закоченел: его, бесчувственного, внесли в горницу, положили на пол, ножом разжали зубы и влили в рот стакан коньяку. Через час Челяк, уже одетый и приведенный в чувство, плясал, как ни в чем не бывало.
Угощал Неулыбов и простой, бедный люд: в нижнем этаже его дома поставлены были длинные столы со всякой снедью, с водкой, пивом и домашней хмельной брагой; всякий желающий мог прийти на неулыбовский свадебный пир. И так пили они с начала осени до масленицы, более четырех месяцев. Молодые после первого пира тотчас же уехали в свадебное путешествие по Волге, через месяц воротились, но застали еще более разливанное море.
За все время пиров пропито было за один только неулыбовский счет более семи тысяч рублей — целый капитал не только для крестьянина! Сам старик Неулыбов ничего спиртного не пил, но неизменно возглавлял каждое пиршество, потряхивая начинавшими седеть благообразными кудрями.
Богатство старика, в сущности небольшое, было случайным крестьянским богатством, создавшимся от нескольких удачных посевов, благодаря все той же аренде казенной целины, не знавшей плохих урожаев. От этой земли и отсутствия помещиков на степном берегу Волги богатела вся округа, исстари населенная «государственными» вольными крестьянами, не испытавшими неволи крепостничества. Все они были зажиточными хлеботорговцами, и не считал вчерашний бедняк-приказчик, а ныне промышленник-хлеботорговец Неулыбов, как бы с неба свалившееся к нему богатство своим, а считал, что оно даровано ему счастливым случаем или богом, в которого верил спокойно и просто, как верили в богов люди древности.
Но уже чувствовалась в воздухе близость иссякания золотой волны: шел тихий, незаметный, но настойчивый слушок. Все чаще поговаривали на ухо друг другу, что арендованная на десятки лет безграничная степная земля отойдет скоро от приволжских сел, что казна не даст новой аренды мелким мужицким арендаторам, и тогда не только мужицкие богачи обеднеют, но и все рядовое приволжское крестьянство.
Не этим ли смутным предчувствием надвигающейся беды объяснялся необыкновенный разгул неулыбовской свадьбы, которая явилась как бы случайным поводом для сельской буржуазии — отвести душу: «хоть день, да наш»…
Молодые поселились наверху, в светелке, а старик остался в нижнем этаже, вместе с работниками и приказчиками. Молодая была старше мужа на пять лет: такое ненормальное соотношение возрастов было, однако, в обычае в крестьянстве не только приволжского края: девка в каждой семье рассматривалась как рабочая сила, с которой неохотно расставались, а в семье жениха поскорее женили подростков, чтобы получить взрослую работницу. Недаром так распространено было в крестьянстве снохачество: зачастую молодуха скорее оказывалась парой сорокалетнему свекру — мужчине в расцвете сил, чем шестнадцатилетнему парнишке. Рядом с цветущей молодицей выдающейся красоты невзрачный Федюшка, безусый мальчишка монгольского склада, казался не мужем ее, а разве только младшим братом или, быть может, «мальчиком на побегушках», которому больше шло быть ее слугой, да и то на черной половине. Но никто из пирующих не обращал внимания на это очевидное внешнее несходство: все знали независимый характер Груни, и о каком-нибудь принуждении ее не могло быть и речи: стало быть, по доброй воле выбрала жениха; а что невеста старше, так ведь это почти что признанный всеми всеобщий обычай. В последний день масленицы, в прощеное воскресенье, назначен был последний, прощальный пир в доме Неулыбовых.
Зимний день еще только смеркался, в комнатах зажигали лампы и накрыли длинный стол для ожидаемых гостей; но еще не скоро ожидался съезд их. Молодая хозяйка то входила, то выходила из комнаты по хозяйственным хлопотам. Федор надел «ергак»[17] и поехал куда-то на иноходце, а Трофим задумчиво смотрел в окно, поджидая, не подъехал бы кто.