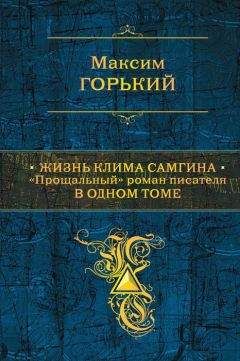– Вот и у нас...
Никто не решался подойти к бесформенной груде серых и красных тряпок, – она сочилась кровью, и от крови поднимался парок. Было страшно смотреть на это, не имеющее никакого подобия человека,, растерзанное и – маленькое. Глаза напряженно искали в куче тряпок что-нибудь человеческое, и Самгин закрыл глаза только тогда, когда различил под мехом полости желтую щеку, ухо и, рядом с ним, развернутую ладонь. Голоса людей зазвучали громче, двое подошли к полицейскому, наклонились над ним. Высокая барышня с коньками в руке спросила Самгина:
– Вы ранены?
Он тряхнул головой, оторвался от стены и пошел; идти было тяжко, точно по песку, мешали люди; рядом с ним шагал человек с ремешком на голове, в переднике и тоже в очках, но дымчатых.
– Вот те и превосходительство, – тихонько сказал он, подхватив Самгина под локоть, и шепнул ему: – Сотрите кровь-то со щеки, а то в свидетели потянут.
Быстро выхватив платок из кармана, Самгин прижал его к правой щеке и, почувствовав остренькую, колющую боль, с испугом поднял воротник. Боль в щеке была не сильная, но разлилась по всему телу и ослабила Клима. Он остановился на углу, оглядываясь: у столба для афиш лежала лошадь с оторванной ногой, стоял полицейский, стряхивая перчаткой снег с шинели, другого вели под руки, а посреди улицы – исковерканные сани, красно-серая куча тряпок, освещенная солнцем; лучи его все больше выжимали из нее крови, она как бы таяла; Самгину показалось, что и небо, и снег, и стекла в окнах – всё стало ярче, – ослепительно и даже бесстыдно ярко. Он шел осторожно, как по льду, – ему казалось, что если он пойдет быстрее, то свалится. Вероятно, он прошел бы мимо магазина Марины, но она стояла на панели.
– Губернатора? – тихонько спросила она и, схватив Самгина за рукав пальто, толкнула его в дверь магазина. – Ой, что это, лицо-то у тебя? Клим, – да неужели ты..?
По ее густому шопоту, по толчкам в спину Самгин догадался, что она испугалась и, кажется, подозревает его. Он быстро пробормотал несколько слов, и Марина, втолкнув его в комнату, заговорила громче, деловито:
– Ну-ко, покажи! В ранке есть что-то... Сядь! Отбежала в угол комнаты, спрашивая:
– Бомбиста – схватили? Нет?
Потом она обожгла щеку его одеколоном, больно поковыряла ее острым ногтем и уже совсем спокойно сказала:
– Железинка воткнулась, – пустяки! Вот если бы в глаз... Ну, рассказывай!
Но говорить он не мог, в горле шевелился горячий сухой ком, мешая дышать; мешала и Марина, заклеивая ранку на щеке круглым кусочком пластыря. Самгин оттолкнул ее, вскочил на ноги, – ему хотелось кричать, он боялся, что зарыдает, как женщина. Шагая по комнате, он слышал:
– Ой, как тебя ушибло! На, выпей скорее... И возьми-ко себя в руки... Хорошо, что болвана Мишки нет, побежал туда, а то бы... Он с фантазией. Ну, довольно, Клим, сядь!
Самгин послушно сел, закрыл глаза, отдышался и начал рассказывать, судорожно прихлебывая чай, стуча стаканом по зубам. Рассказывал он торопливо, бессвязно, чувствовал, что говорит лишнее, и останавливал себя, опаздывая делать это.
«Не следовало называть Судакова».
Марина слушала, приподняв брови, уставясь на него янтарными зрачками расширенных глаз, облизывая губы кончиком языка, – на румяное лицо ее, как будто изнутри, выступила холодная тень.
– Когда парнишка придет – ты перестань об этом, – предупредила она.
И, не отводя глаз от его лица, поправляя обеими руками тяжелую массу каштановых волос, она продолжала вполголоса:
– Но – до чего ты раздерган! Вот – не ожидала! Такой ты был... уравновешенный. Что же с тобой будет, эдак-то?
Самгин пожал плечами, – тон ее был неприятен ему, а она строговато, как старшая, начала допрашивать его:
– С женой – совсем порвал? С Дуняшей-то серьезно, что ли? Как же и где думаешь жить? – Он отвечал ей кратко, откровенно и, сам несколько удивляясь этой откровенности, постепенно успокаивался.
– В своей ли ты реке плаваешь? – задумчиво спросила она и тотчас же усмехнулась, говоря: – Так – осталась от него кучка тряпок? А был большой... пакостник. Они трое: он, уездный предводитель дворянства да управляющий уделами – девчонок-подростков портить любили. Архиерей донос посылал на них в Петербург, – у него епархиалочку отбили, а он для себя берег ее. Теперь она – самая дорогая распутница здесь. Вот, пришел, негодяя!
Она встала, вышла в магазин, и там тяжело зазвучали строгие ее вопросы:
– Ты – что же – болван, забыл, что магазин запирать надобно? А тебе какое дело? Ну – не поймали, а – тебе что?
Возвратясь, она сказала вполголоса:
– Никого не поймали. Ты, Клим Иванович, поди-ко к себе в гостиницу, покажись там...
Самгин поднялся на ноги, изумленно спросил:
– Неужели ты думаешь..?
– Ничего я не думаю, а – не хочу, чтоб другие подумали! Ну-ко, погоди, я тебе язвинку припудрю...
И, накладывая горячим пальцем пудру на его щеку, она сказала:
– Если скушно будет, приезжай домой ко мне часам к шести. Ладно? И – вздохнула.
– Разваливается бытишко наш с верха до низа. Помолчала, точно прислушиваясь к чему-то, перебирая лальцами цепочку часов на груди, потом твердо выговорила:
– Ну – ничего! Надоест жить худо – заживем хорошо! Пускай бунтуют, пускай все страсти обнажаются! Знаешь, как старики говаривали? «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься». В этом, друг мой, большая мудрость скрыта. И – такая человечность, что другой такой, пожалуй, и не найдешь... Значит – до вечера?
Самгин пошел домой не спеша, походкой гуляющего человека, обдумывая эту женщину.
«Не может быть, чтоб она считала меня причастным к террору. Это – или проявление заботы обо мне, или – опасение скомпрометировать себя, – опасение, вызванное тем, что я сказал о Судакове. Но как спокойно приняла она убийство!» – с удивлением подумал он, чувствуя, что спокойствие Марины передалось и ему.
В городе было не по-праздничному тихо, музыка на катке не играла, пешеходы встречались редко, гораздо больше – извозчиков и «собственных упряжек»; они развозили: во все стороны солидных и озабоченных люде», и Самгин отметил, что почти все седоки едут съежившись, прикрыв лица воротниками шуб и пальто, хотя было не холодно. В доме, против места, где взорвали губернатора, окно было заткнуто синей подушкой, отбит кусок наличника, неприятно обнажилось красное мясо кирпича, а среди улицы никаких признаков взрыва уже не было заметно, только слой снега стал свежее, белее и возвышался бугорком. Самгин покосился на этот бугорок и пошел быстрее.
В вестибюле гостиницы его встретил очень домашний, успокаивающий запах яблоков и сушеных грибов, а хозяйка, радушная, приятная старушка, жалобно и виновато сказала:
– Слыхали, какое ужасное событие? Что же это делается на земле? Город у нас был такой тихий, жили мы, никого не обижая...
– Да, тяжелое время, – согласился Самгин. В номере у себя он прилег на диван, закурил и снова начал обдумывать Марину. Чувствовал он себя очень странно; казалось, что голова наполнена теплым туманом и туман отравляет тело слабостью, точно после горячей ванны. Марину он видел пред собой так четко, как будто она сидела в кресле у стола.
«Почему у нее нет детей? Она вовсе не похожа на женщину, чувство которой подавлено разумом, да и – существуют ли такие? Не желает портить фигуру, пасует перед страхом боли? Говорит она своеобразно, но это еще не значит, что она так же и думает. Можно сказать, что она не похожа ни на одну из женщин, знакомых мне».
От всего, что он думал, Марина не стала понятнее, а наиболее непонятным оставалось ее спокойное отношение к террористическому акту.
Ярким лунным вечером он поднимался по крутой улице между двумя рядами одноэтажных домиков, разъединенных длинными заборами; тесные группы деревьев, отягченные снегов, еще более разъединяли эти домики, как бы спрятанные в холмах снега. Дом Зотовой – тоже одноэтажный, его пять окон закрыты ставнями, в щели двух просачивались полоски света, ложась лентами на густую тень дома. Крыльца не было. Самгин дернул ручку звонка у ворот и – вздрогнул: колокол – велик и чуток, он дал четыре удара, слишком сильных для этой замороженной тишины. Калитку открыл широкоплечий мужик в жилетке, в черной шапке волос на голове; лицо его густо окутано широкой бородой, и от него пахло дымом. Молча посторонясь, он пропустил гостя на деревянные мостки к двум ступеням крыльца, похожего на шкаф, приставленный к стене дома. Гремя цепью, залаяла черная собака – величиною с крупного барана. В прихожей, загроможденной сундуками, Самгину помогла раздеться большеглазая, высокая и тощая женщина.
– Аккуратен, – сказала Марина, выглядывая из освещенного квадрата дверей, точно из рамы. – Самовар подашь, Глафирушка.
В большой комнате на крашеном полу крестообразно лежали темные ковровые дорожки, стояли кривоногие старинные стулья, два таких же стола; на одном из них бронзовый медведь держал в лапах стержень лампы; на другом возвышался черный музыкальный ящик; около стены, у двери, прижалась фисгармония, в углу – пестрая печь кузнецовских изразцов, рядом с печью – белые двери;