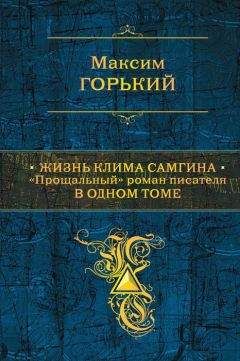Марина взяла рюмку портвейна, отхлебнула и, позванивая по стеклу ногтями, продолжала:
– Неплохой человек она, но – разбита и дребезжит вся. Тоскливо живет и, от тоски, занимается религиозно-нравственным воспитанием народа, – кружок организовала. Надувают ее. Ей бы замуж надо. Рассказала мне, в печальный час, о романе с тобой.
– Представляю, как она рассказала, – пробормотал Самгин.
– Очень хорошо, – ты ошибаешься, – строговато возразила Марина. – Трогательный роман, и без виноватых. Никто не виноват, кроме вашей молодости, – это она хорошо понимает.
– Странно, что ни у нее, ни у тебя детей нет, – неожиданно для себя и вызывающе проговорил Самгин. Марина тотчас же добавила:
– И у тебя нет.
Помолчали. Затем она спросила:
– А не кажется тебе, Клим Иванович, что дети – наибольше чужие люди родителям своим?
О Лидии она говорила без признаков сочувствия к ней, так же безучастно произнесла и фразу о детях, а эта фраза требовала какого-то чувства: удивления, печали, иронии.
– Вот – соседи мои и знакомые не говорят мне, что я не так живу, а дети, наверное, сказали бы. Ты слышишь, как в наши дни дети-то кричат отцам – не так, всё – не так! А как марксисты народников зачеркивали? Ну – это политика! А декаденты? Это уж – быт, декаденты-то! Они уж отцам кричат: не в таких домах живете, не на тех стульях сидите, книги читаете не те! И заметно, что у родителей-атеистов дети – церковники...
Самгин подумал, что все это следовало бы сказать с некоторым задором или обидой, тревогой, а она сказала так, как будто нехотя дразнила кого-то, а сказав – зевнула:
– Ой, извини!
Самгин встал, нервно потирая руки, похрустывая пальцами.
– Интересный ты человек...
– Спасибо, – сказала она, улыбаясь.
– Но – я тебя не понимаю...
– Потолкуем побольше – поймешь!.. К Лидии-то зайди, я сказала, что ты здесь. Будь здоров...
В пронзительно холодном сиянии луны, в хрустящей тишине потрескивало дерево заборов и стен, точно маленькие, тихие домики крепче устанавливались на земле, плотнее прижимались к ней. Мороз щипал лицо, затруднял дыхание, заставлял тело съеживаться, сокращаться. Шагая быстро, Самгин подсчитывал:
«Торгует церковной утварью и вольнодумничает. Хвастает начитанностью. Ест и пьет сластолюбиво. Грубовата. Врет, что «в женском смысле – одна», вероятно – есть любовник...»
Кроме этого, он ничего не нашел, может быть – потому, что торопливо искал. Но это не умаляло ни женщину, ни его чувство досады; оно росло и подсказывало: он продумал за двадцать лет огромную полосу жизни, пережил множество разнообразных впечатлений, видел людей и прочитал книг, конечно, больше, чем она; но он не достиг той уверенности суждений, того внутреннего равновесия, которыми, очевидно, обладает эта большая, сытая баба.
«Если она читала не те книги, какие читал я, – этим еще ничего не объясняется. Ее слова о духе – какая-то наивная чепуха...»
В конце концов он должен был признать, что Марина вызывает в нем интерес, какого не вызывала еще ни одна женщина, и это – интерес, неприятно раздражающий.
На другой день он пошел к Лидии.
Она жила на углу двух улиц в двухэтажном доме, угол его был срезан старенькой, облезло» часовней; в ней, перед аналоем, качалась монашенка, – над черной ее фигуркой, точно вырезанной из дерева, дрожал рыжеватый огонек, спрятанный в серебряную лампаду. Часовня примыкала к стене дома Лидии, в нижнем его этаже помещался «Магазин писчебумажных принадлежностей и кустарных изделий»; рядом с дверью в магазин: выступали на панель три каменные ступени, над ними – дверь мореного дуба, без ручки, без скобы, посредине двери- – медная дощечка с черными буквами: «Л. Т. Муромская».
Самгин позвонил, спрашивая себя:
«Зачем это я засоряю голову мелочами?»
Дверь открыла пожилая горничная в белой наколке на голове, в накрахмаленном переднике; ладо у нее было желтое, длинное, а губы такие тонкие, как будто рот зашит, но когда она спросила: «Кого вам?» – оказалось, что рот у нее огромный и полон крупными зубами.
На лестнице было темновато, горничная с каждым шагом вверх становилась длиннее, и Самгину показалось, что он идет не вверх, а вниз.
«Как в Дарьяльском ущелье...»
Сумрак в прихожей был еще более густ; горничная, сняв с него пальто, строго сказала:
– Пройдите направо.
Самгин шагнул в маленькую комнату с одним окном; в драпри окна увязло, расплылось густомалиновое солнце, в углу два золотых амура держали круглое зеркало, в зеркале смутно отразилось лицо Самгина.
«А пожалуй, верно: похож я на Глеба Успенского», – подумал он, снял очки и провел ладонью по лицу. Сходство с Успенским вызвало угрюмую мысль:
«Среди таких людей легко сойти с ума».
Слева распахнулась не замеченная им драпировка, и бесшумно вышла женщина в черном платье, похожем на рясу монахини, в белом кружевном воротнике, в дымчатых очках; курчавая шапка волос на ее голове была прикрыта жемчужной сеткой, но все-таки голова была несоразмерно велика сравнительно с плечами. Самгин только по голосу узнал, что это – Лидия.
– Боже мой, – вот неожиданно! Хотя Марина сказала мне, что ты здесь...
Бросив перчатки на стул, она крепко сжала руку Самгина тонкими, горячими пальцами.
– А я собралась на панихиду по губернаторе. Но время еще есть. Сядем. Послушай, Клим: я – ничего не понимаю! Ведь дана конституция, что же еще надо? Ты постарел немножко: белые виски и очень страдальческое лицо. Это понятно – какие дни! Конечно, он жестоко наказал рабочих, но – что ж делать, что?
Она говорила непрерывно, вполголоса и в нос, а отдельные слова вырывались из-за ее трех золотых зубов крикливо и несколько гнусаво. Самгин подумал, что говорит она, как провинциальная актриса в роли светской дамы.
За стеклами ее очков он »е видел глаз, но нашел, что лицо ее стало более резко .цыганским, кожа – цвета бумаги, выгоревшей на солнце; тонкие, точно рисунок пером, морщинки около глаз придавали ее лицу выражение улыбчивое и хитроватое; это не совпадало с ее жалобными словами.
– Он был либерал, даже – больше, но за мученическую смерть бог простит ему измену идее монархизма.
Самгин, доставая папиросы, наклонился и скрыл невольную усмешку. На полу – толстый ковер малинового цвета, вокруг – много мебели карельской березы, тускло блестит бронза; на стенах – старинные литографии, комнату наполняет сладковатый, неприятный запах. Лидия – такая тонкая, как будто все вокруг сжимало ее, заставляя вытягиваться к потолку.
– Ты, конечно, тоже за конституцию? Самгин утвердительно кивнул головой, ожидая, скоро ли иссякнет поток ее слов.
– Я – понимаю, ты – атеист! Монархистом может быть только верующий. Нравственное руководство народом – священнодействие...
Нет, она не собиралась замолчать. Тогда Самгин, закурив, посмотрел вокруг, – где пепельница? И положил спичку на ладонь себе так, чтоб Лидия видела это. Но и на это она не обратила внимания, продолжая рассказывать о монархизме. Самгин демонстративно стряхнул пепел папиросы на ковер и почти сердито спросил:
– Почему ты так торопишься изложить мне твои политические взгляды?
– Нужна ясность, Клим! – тотчас ответила она и, достав с полочки перламутровую раковину в серебре, поставила ее на стол: – Вот пепельница.
– Я тебя задерживаю?
– Нет, нет! Я потому о панихиде, что это волнует. Там будет много людей, которые ненавидели его. А он – такой веселый, остроумный был и такой...
Не найдя слова, она щелкнула пальцами, затем сняла очки, чтоб поправить сетку на голове; темные зрачки ее глаз были расширены, взгляд беспокоен, но это очень молодило ее. Пользуясь паузой, Самгин спросил:
– Ты очень близка с Зотовой?
– Ради ее именно я решила жить здесь, – этим все сказано! – торжественно ответила Лидия. – Она и нашла мне этот дом, – уютный, не правда ли? И всю обстановку, все такое солидное, спокойное. Я не выношу новых вещей, – они, по ночам, трещат. Я люблю тишину. Помнишь Диомидова? «Человек приближается к себе самому только в совершенной тишине». Ты ничего не знаешь о Диомидове?
– Нет, – сухо ответил Самгин и, желая услышать еще что-нибудь о Марине, снова заговорил о ней.
– Но ведь ты знал ее почти в одно время со мной, – как будто с удивлением сказала Лидия, надевая очки. – На мой взгляд – она не очень изменилась с той поры.
Тон ее слов показался Климу фальшивым, и сидела она так напряженно прямо, точно готовилась спорить, отрицать что-то.
«Глупо выдумала себя и натянута на чужие мысли», – решил Самгин, а она, вздохнув, сказала:
– Да, она такая же, какой была в девицах, – умная, искренняя, вся – для себя. Я говорю о внутренней ее свободе, – добавила она очень поспешно, видимо, заметив его скептическую усмешку; затем спросила: – Не хочешь ли взять у меня книги отца? Я не знаю, что с ними делать. Они в прекрасных переплетах, отдать в городскую библиотеку – жалко и – невозможно! У него была привычка делать заметки на полях, а он так безжалостно думал о России, о религии... и вообще. Многие надписи мое чувство дочери заставило стереть резинкой...