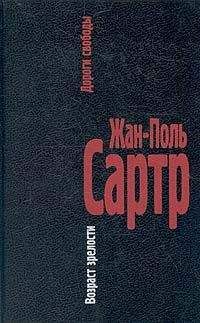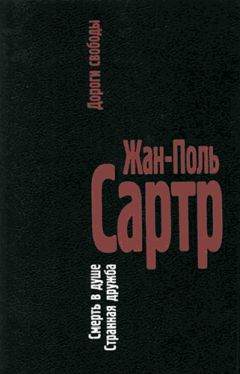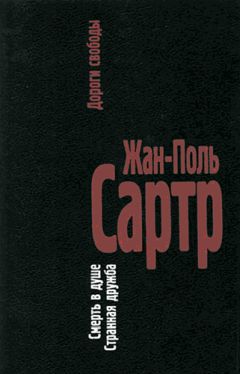Книжный магазин Гарбюра стоял на углу улицы Во-Жирар и бульвара Сен-Мишель; он имел с каждой стороны по входу, что благоприятствовало замыслам Бориса. Перед магазином были выставлены длинные столы с книгами, большей частью подержанными. Борис краем глаза приметил бродившего неподалеку рыжеусого господина, которого принял за шпика. Помедлив, Борис подошел к третьему столу, книга была здесь, огромная, такая огромная, что Борис на мгновение пал духом, семьсот страниц инкварто, гофрированные листы толщиной с мизинец. «И это мне предстоит засунуть в портфель», – с некоторым унынием подумал он. Но достаточно было посмотреть на золотые буквы, мягко сверкавшие на обложке, и отвага его вернулась: «Исторический и этимологический словарь воровского жаргона и арго с XIV века до наших дней». «Исторический!» – в экстазе повторил про себя Борис. Он по-дружески нежно дотронулся до обложки кончиками пальцев, чтобы вновь ощутить контакт с ней. «Это не книга, это мебель», – восхищенно подумал он. За его спиной усатый господин обернулся, он, несомненно, следил за ним. Нужно было начинать комедию, листать фолиант, корчить физиономию зеваки, который колеблется и наконец поддается искушению. Борис открыл наугад и прочел:
«Быть как... – быть склонным к... Оборот, обиходный и поныне. Пример: «Кюре звенел, как колокол». Переводится: «Кюре был склонен к шуткам». Говорят также:
«Быть из...» – «быть кем-то»... Пример: «Он из мужелюбов», т. е. он гомосексуалист. Это речение первоначально употреблялось на юго-западе Франции». Следующие страницы не были разрезаны. Борис бросил читать и засмеялся. Он с наслаждением повторил: «Кюре звенел, как колокол». Потом вдруг посерьезнел и начал считать: «Раз! Два! Три! Четыре!» – в то время как строгая и чистая радость усилила его сердцебиение.
Чья-то рука легка ему на плечо. «Я пропал, – подумал Борис, – но они поторопились, пока что у них нет никаких доказательств». Он медленно и спокойно обернулся. Это был Даниель Серено, друг Матье. Борис видел его два-три раза и находил великолепным; у него был вид настоящего пройдохи.
– Здравствуйте, – сказал Серено, – что читаете? У вас такой зачарованный вид.
На сей раз пройдохой он не выглядел, но все равно его следовало остерегаться: по правде говоря, он казался даже слишком любезным, должно быть, задумал какой-то гнусный фортель. Как нарочно, он застал Бориса листающим словарь жаргона, это, бесспорно, дойдет до ушей Матье, который будет над ним подтрунивать.
– Я зашел по пути, – натянуто ответил он. Серено улыбнулся; он двумя руками взял фолиант и поднес его к глазам; видимо, он был слегка близорук. Борис восхитился его непринужденностью: обычно те, кто листает книги, стараются оставить их на столе из страха перед частными детективами. Но было очевидно, что Серено считал для себя все дозволенным. Борис сдавленно, изображая безразличие, пробормотал:
– Это любопытный опус...
Серено не ответил: казалось, он погрузился в чтение. Борис разозлился и подверг его строгому изучению. Но, по совести говоря, Серено был безукоризненно элегантен. Пожалуй, в этом костюме из почти розового твида, в льняной рубашке, в желтом галстуке была какая-то намеренная дерзость, и она Бориса немного шокировала. Борис любил строгую и немного небрежную элегантность. Но в конце концов ансамбль был безупречным, хоть и излишне нежным, как свежее масло. Серено расхохотался. У него был теплый и приятный смех, кроме того, Борис счел Даниеля симпатичным, потому что он, смеясь, широко открывал рот.
– «Быть из мужелюбов!» – просмаковал Серено. – «Быть из мужелюбов!» Это находка, при случае я ею воспользуюсь.
Он положил книгу на стол.
– Вы из мужелюбов, Сергии?
– Я... – промямлил Борис.
– Не краснейте, – сказал Серено, и Борис почувствовал, что стал пунцовым, – будьте уверены, что ни о чем предосудительном я не подумал. Я умею узнавать тех, кто «из мужелюбов» (это выражение явно его забавляло), – их движения имеют вялую округлость, в природе которой невозможно ошибиться. Вы другое дело, я наблюдал за вами и был очарован: ваши движения грациозны, хоть и несколько угловаты. Должно быть, вы очень ловки.
Борис внимательно слушал Серено: всегда интересно слушать, как кто-то рассказывает, каким он вас видит. Кроме того, у Серено был очень приятный низкий голос. Глаза его смущали: поначалу кажется, что они полны нежности, но если вглядеться, замечаешь в них нечто жестокое, почти маниакальное. «Он хочет подшутить надо мной», – подумал Борис и насторожился. Его подмывало спросить у Серено, что он имеет в виду под «угловатыми движениями», но он не осмелился, подумав, что лучше как можно меньше говорить; к тому же под этим настойчивым взглядом он чувствовал, как в нем зарождается странная, приводящая в смущение покорность, что ему хотелось встряхнуться, чтобы избавиться от этой томной покорности. Он отвернулся, наступило томительное молчание. «Он меня примет за дебила», – покорно подумал Борис.
– Вы, кажется, изучаете философию? – спросил Серено.
– Да, философию, – с готовностью ответил Борис. Он был рад, что представился предлог прервать молчание. Но в этот момент часы Серено пробили один раз, и Борис оцепенел от ужаса. «Четверть девятого! – впадая в панику, подумал он. – Если он сейчас не уйдет, все пропало». Книжный магазин Гарбюра закрывался в половине девятого. Но Серено, казалось, и не собирался уходить. Он сказал:
– Признаться, я ничего не смыслю в философии. В отличие от вас, естественно...
– Да, кажется, я немного в ней разбираюсь, – сказал Борис, чувствуя себя как на угольях.
Он подумал: «Наверно, я веду себя невежливо, но почему он не уходит?» Впрочем, Матье его предупреждал: Серено всегда появляется в самый неподходящий момент, это одно из проявлений его демонической натуры.
– По-моему, вы это любите, – сказал Серено.
– Да, – согласился Борис, чувствуя, что снова краснеет. Он терпеть не мог говорить о том, что любит: это так бесстыдно. У него создалось впечатление, что Серено об этом догадывается и неделикатность его нарочита. Серено пронзительно посмотрел на него.
– А почему?
– Не знаю, – буркнул Борис. Это было правдой: он и в самом деле не знал. Однако он очень любил философию. Даже Канта.
Серено улыбнулся.
– Во всяком случае, сразу видно, что эта любовь идет не от головы, – сказал он.
Борис было ощетинился, но Серено живо добавил:
– Я шучу. В сущности, я считаю, что вам повезло. Как и все, я тоже этим занимался, но мне так и не удалось полюбить ее... Я считаю, что от философии меня отвратил Деларю: он для меня слишком умен. Я иногда просил у него разъяснений, но, как только он начинал разъяснять, я уже ничего не понимал, мне даже казалось, что я не понимаю и своего вопроса.
Борис был задет этим насмешливым тоном и заподозрил, что Серено хотел коварно заставить его позлословить о Матье, чтобы потом с удовольствием передать тому разговор. Бориса беспричинная подлость Серено и восхитила, и покоробила; он сухо возразил:
– Но Матье очень хорошо объясняет. На этот раз Серено расхохотался, и Борис прикусил губу.
– Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Но мы с ним старинные друзья, и я полагаю, что он приберегает педагогические секреты для молодежи. Обычно он вербует последователей из своих учеников.
– Я не являюсь его последователем, – возразил Борис.
– Я не имел вас в виду, – сказал Даниель. – Вы не похожи на последователя. Я вспомнил об Уртигере, высоком блондине, который в прошлом году уехал в Индокитай. Вы, должно быть, слышали о нем: два года назад это была великая страсть, их всегда видели вместе.
Борис должен был признать, что удар попал в цель, и его восхищение Серено возросло, хотя он предпочел бы дать ему хорошую оплеуху.
– Матье мне о нем рассказывал, – сказал он.
Он ненавидел этого Уртигера, с которым Матье познакомился еще до него. Иногда, когда Борис приходил, чтобы встретиться с Матье в кафе на Домской набережной, тот с проникновенным видом говорил: «Нужно написать Уртигеру». После чего он долго пребывал в прилежной задумчивости, точно солдат, который пишет письмо своей землячке и мечтательно выводит ручкой вензеля на белом листе. В такие минуты Бориса захлестывала волна неприязни к нему. Нет, он не ревновал Матье к Уртигеру. Наоборот, он испытывал к нему жалость, смешанную с толикой отвращения; впрочем, он ничего не знал об Уртигере, видел только фотографию, где был запечатлен высокий меланхолический юноша в брюках для гольфа, да абсолютно идиотский реферат по философии, который еще валялся на рабочем столе Матье. Ни за что на свете он не хотел бы, чтобы потом Матье относился к нему так же, как к Уртигеру. Он предпочел бы никогда больше не видеть Матье, чем представить, что тот однажды скажет значительно и печально какому-нибудь молодому философу: «Да! Сегодня мне надо написать Сергину». На худой конец он допускал, что Матье был лишь этапом в его жизни, хотя и это уже достаточно досадно, но было невыносимо думать, что он мог остаться всего лишь этапом в жизни Матье.