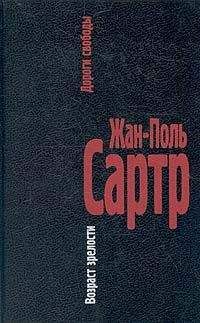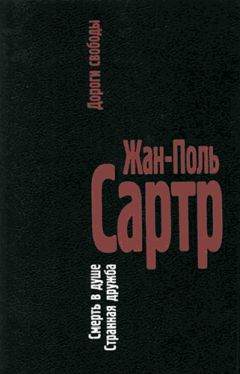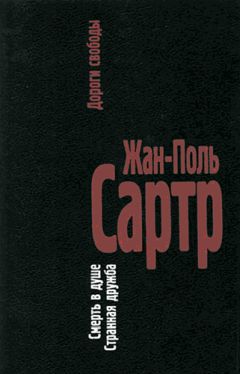Даниель с удовлетворением улыбнулся; он так гордился этой победой, что на миг перестал за собой следить: в потоке слов образовался разрыв, который мало-помалу удлинялся, растягивался и в конце концов стал тишиной. Тишиной давящей и полой. Он не должен был, не должен был прекращать говорить. Ветер утих, ярость поутихла тоже; в самой глубине тишины, как рана, виднелось лицо Сергина. Милое непонятное лицо; сколько терпения, сколько старания понадобилось бы, чтобы немного его осветить. Даниель подумал: «Я бы смог...» Еще в этом году, еще сегодня он бы смог. А потом... Он подумал: «Это мой последний шанс». Это был его последний шанс, и Матье у него этот шанс небрежно украл. Ральфы, Бобби – вот что ему оставалось. «А из бедного мальчика Матье сделает ученую обезьяну!» Даниель шел в полной тишине, только его шаги отдавались в голове, как на пустынной утренней улице. Его одиночество было таким полным под этим прекрасным небом, ласковым, как чистая совесть, среди этой суетливой толпы, что он был ошеломлен, что еще существует; он должен быть ночным кошмаром какого-то существа, которое вот-вот проснется. К счастью, ярость снова завладела им и затопила все, он почувствовал себя воскрешённым этим бодрящим бешенством, и бегство началось снова, снова его обуяло столпотворение слов; он ненавидел Матье. Вот кто должен был считать существование совершенно естественным, он не задает себе вопросов, этот классический праведный свет, это целомудренное небо созданы для него, он у себя дома, он не знает, что такое одиночество. «Ей-же-ей, – подумал Даниель, – он принимает себя за Гете». Он поднял голову, он смотрел прохожим в глаза; он пестовал свою ненависть: «Но берегись, воспитывай себе последователей, если тебя это развлекает, только не за мой счет, иначе в конце концов я сыграю с тобой злую шутку». Новый толчок гнева приподнял его над землей, теперь он летел, отдавшись радости быть устрашающим, и вдруг в голову ему пришла мысль, острая и раскаленная: «Но, но, но... Возможно, следует помочь этому тугодуму, помочь ему вернуться в себя, сделать так, чтобы жизнь не была для него слишком легкой». Такую услугу он, Даниель, может ему оказать. Он вспомнил, с каким суровым мужским видом Марсель однажды бросила ему через плечо: «Когда женщине крышка, ей только и остается сделать себе ребенка». Занятно, если они на этот счет разного мнения, если он мечется по хибарам знахарок, а в это время она в глубине своей розовой комнаты сохнет от желания иметь ребенка. Марсель никогда не посмеет ему об этом сказать, если только... Если только не найдется некто, некий добрый общий друг, который придаст ей не много смелости... «Я злой», – подумал он, преисполненный радости. Злоба – это необычайное ощущение скорости, вдруг отделяешься от себя и летишь вперед стрелой: скорость хватает тебя за загривок, она возрастает с каждой минутой, это сладко и невыносимо, катишься с отпущенными тормозами в разверстую могилу, сметаешь слабые препятствия, неожиданно возникающие по обе стороны, – бедный Матье, я, такой сякой, собираюсь испортить ему жизнь – и ломающиеся, как засохшие ветки, и эта радость, пронзенная страхом, как она пьянит, она суха, словно удар током, эта радость нескончаема. «Спрашивается, будут ли у него еще последователи? Отец семейства, способен ли такой кого-то увлечь?» Он представил себе лицо Сергина, когда Матье объявит ему о своей женитьбе, презрение этого малыша, его ошеломленное отчаяние. «Как, вы, вы женитесь?» И Матье промямлит: «Да, порой возникают ситуации...» Но молодежь не понимает этих ситуаций. Нечто зыбкое возникло перед его глазами. Это было лицо Матье, его честное, славное лицо, но бег вскоре усилился: зло, как велосипед, было стойким только при нарастающей скорости. Мысль, проворная и радостная, скакнула впереди него: «Матье – порядочный человек. Он не подлец. Нет-нет! Он из семени Авеля, у него есть совесть. Ну что ж, тогда он должен жениться на Марсель: после ему останется только почить на лаврах, он еще молод, у него впереди целая жизнь, пусть упивается своим благородным поступком».
Это было так головокружительно, благолепный отдых чистой совести, беспримесной чистой совести, под привычным и снисходительным небом, что Даниель уже не знал в точности, желает ли он подобного для Матье или для себя самого. Конченый человек, смирившийся, успокоившийся, наконец-то успокоившийся... «А что, если она не захочет?.. Нет! Если есть шанс, один крохотный шанс, что она хочет иметь ребенка, клянусь, она предложит ему на себе жениться завтра же вечером». Месье и мадам Деларю... Месье и мадам Деларю имеют честь сообщить вам... «В итоге, – подумал Даниель, – я стану их ангелом-хранителем, ангелом семейного очага». Да, он был архангелом, архангелом ненависти, архангелом-заступником, архангелом, вышедшим на улицу Верцингеторига. Он снова увидел на мгновение длинное, неловкое и грациозное тело, худое лицо, склонившееся над книгой, но образ Бориса тут же размылся, и возник Бобби; «Улица Урс, 6». Даниель почувствовал себя свободным, как воздух, позволяющий себе все на свете. Большой бакалейный магазин на улице Верцингеторига был еще открыт, он вошел. Когда он оттуда вышел, то держал в правой руке меч архангела, а в левой – коробку конфет для мадам Дюффе.
Часы пробили десять. Мадам Дюффе, казалось, этого не слышала. Она устремила на Даниеля внимательный взгляд, глаза ее покраснели. «Скоро она уберется!» – подумал Даниель. Мадам Дюффе хитро ему улыбалась, но с трудом скрывала зевоту. Вдруг она откинула назад голову и, по-видимому, приняла решение; она сказала с шаловливым задором:
– Ну что ж, дети мои, я иду спать! Не заставляйте ее поздно ложиться, Даниель, я на вас рассчитываю. А то потом она спит до двенадцати.
Мадам Дюффе встала и похлопала маленькой ловкой рукой по плечу Марсель. Марсель сидела на кровати.
– Слышишь, мой кот Родилар [3] , – она забавлялась, говоря сквозь зубы, – ты слишком долго спишь, ты спишь до двенадцати, ты нагуливаешь жирок.
– Даю вам слово, что уйду до полуночи, – сказал Даниель.
Марсель улыбнулась.
– Если я этого захочу.
Он повернулся к мадам Дюффе с притворным унынием.
– Ничего не поделаешь!
– Ну, будьте благоразумны, – сказала мадам Дюффе, – и спасибо за дивные конфеты.
Она подняла к глазам перевязанную лентой коробку с шутливо-угрожающим жестом.
– Вы очень милы, вы меня балуете, в конце концов я буду вас бранить.
– Вы доставите мне большое удовольствие, если они вам понравятся, – проникновенно проговорил Даниель.
Он склонился над рукой мадам Дюффе и поцеловал ее. Вблизи кожа была морщинистой, с сиреневыми пятнами.
– Архангел! – растроганно воскликнула мадам Дюффе. – Ну что ж, я удаляюсь, – добавила она, целуя Марсель в лоб.
Марсель обняла ее за талию и на секунду прижала к себе, мадам Дюффе взъерошила ей волосы и быстро высвободилась.
– Я скоро приду заправить тебе одеяло, – сказала Марсель.
– Нет, нет, скверная девчонка, оставайся со своим архангелом.
Она убежала с живостью маленькой девочки, и Даниель проследил холодным взглядом за ее узкой спиной: он опасался, что она вообще не уйдет. Дверь закрылась, но он не почувствовал облегчения: он немного боялся остаться с Марсель наедине. Он повернулся к ней и увидел, что она, улыбаясь, смотрит на него.
– Почему вы улыбаетесь? – спросил он.
– Мне всегда забавно видеть вас с мамой, – призналась Марсель. – Какой же вы обольститель, мой бедный архангел! Как вам не стыдно так обольщать окружающих?
Она смотрела на него с нежностью собственника, казалось, она была бы счастлива заполучить его целиком для себя одной. «На ней печать беременности», – злобно подумал Даниель. Как он злился на нее за ее самодовольный вид! Он всегда немного тревожился в преддверии этих долгих доверительных бесед полушепотом, каждый раз надо было решаться, как перед прыжком в воду. «У меня будет приступ астмы», – подумал он. Марсель была унылым сгустком запахов, свернувшимся на кровати, готовым расщепиться от малейшего жеста.
Она встала.
– Я хочу вам кое-что показать. Она взяла с камина фотографию.
– Вы всегда хотели знать, какая я была в молодости... – сказала она, протягивая ее.
Даниель взял фотокарточку: это была Марсель в восемнадцать лет, у нее был вид лесбиянки, губы безвольные, глаза жесткие. И та же дряблая плоть, болтающаяся, точно слишком широкий костюм. Но она была худой. Даниель поднял глаза и увидел ее тревожный взгляд.
– Вы были очаровательны, – осторожно сказал он, – и вы совсем не изменились.
Марсель рассмеялась.
– Нет! Вы хорошо знаете, что я изменилась, противный вы льстец, бросьте, вы уже не с моей мамой.
Она добавила:
– Но я была прехорошенькой, не так ли?
– Сейчас вы мне больше нравитесь, – сказал Даниель, – губы у вас были вяловаты... Сейчас вы выглядите куда интересней.