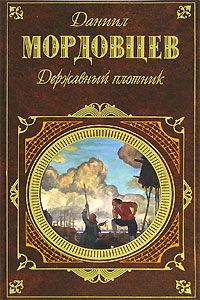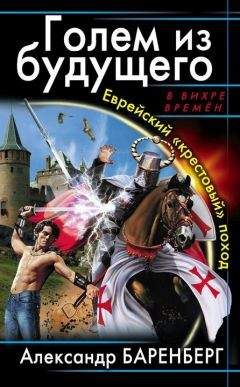– Час-то который? Поди, и служба началась, – сказал Свистулин, зевая.
Фосфорный циферблат голубоватым кругом вспыхнул на его руке.
– Одинадцатый. Эх ты, доля наша собачья!..
И сейчас же, разорвав дождевую сетку, влажными силуэтами вынырнул из тьмы неприятельский разъезд.
– Стой! Кто такие?
Партийка, широко расставив передние ноги, радушно взмахнула хвостом, вытягивая голову вперед. Навстречу протянулась узкая белая морда с нависшей на глаза челкой. Караковый мерин кадета шарахнулся в сторону.
– Ошалели, что ли? Свои! – крикнул Свистулин, лихорадочно расстегивая кобуру. Пальцы скользили по мокрой коже, револьвер Путался в шнуре.
– Какой части? – спросили впереди.
– Второго полка, черноморской дивизии. Команда разведчиков. За белыми охотились. Да драпанули, черти. Повергай братва, назад!
Назвав первую попавшуюся часть, Виктор Павлович одной рукой натянул повод, привстав на стременах, другую опустил броском вниз, к шашке. Мелькнуло еще раз то великое и загадочное, что все эти дни не выходило из головы.
– Больше никто же любви не имат, аще кто душу положит за други своя…
Бесшумно поползла вверх по ножнам кривая кубанка.
– Положу, Господи! – И прибавил почему-то вполголоса: – Воистине воскресе… – будто встречал чье-то приветствие, радостное и родное.
Впереди, за сутуловатой спиной Свистулина, было много – десять ли, двадцать ли всадников – мешал разглядеть мрак. Всматриваясь в него немного, как он говорил, выпившими глазами, Худько не понимал, почему большевистская застава не кричит: Даешь Деникина!" Завсегда кричат, а тут…
Передний вытянул вперед руку, щелкнул чем-то. Пролилась в дождь желтая искристая полоса электрического фонарика, задержалась на цветной фуражке зауряд-прапорщика.
Советский отряд расступился, продвинулась линейка с пулеметом.
Свистулин нащупал курок. А впереди вставил кто-то нехотя:
– А может и наши? Переодемшись только. Не видать, глаза выколешь. Ты паролю у них поспроси.
– Пароль?
Стало очевидным, что не уйти. Еще миг и сверкнула бы в дождливой сетке кривая кубанка, а потом упал бы в хлюпающую грязь кадет Сливков Виктор, до Москвы не дошедший, косточки слив рассыпались бы…
– Больше никто же любви не имат, аще кто душу положит за други своя…
– Пароль? – злобно крикнул передний, поднимая суженную книзу трубку ручной гранаты.
Тот, на белой лошади, вскинул карабин. До боли крепко сжал в костлявых пальцах своих прапорщик тяжелый наган.
Худько забыл о душе, стоять нежелающей. Когда скользнул фонарик по прыщатому его лицу, вестовой сказал широко улыбаясь:
– Христос воскрес, братцы! Ей-Боху! Пароль наш такый: Христос воскрес?!
– Ты не бреши, харя! – неуверенно ответил передний. Вестового искренно обидела такая недоверчивость.
– От крест! Побый мэнэ Бог! – Пасха завтра! Электрическая струйка сломалась, брызнула в исписанную дождем лужу у края дороги.
От линейки отделился кто-то, подошел к головному:
– Верно, Вася. Святая ночь нонче.
Фонарик погас. Далеко влево запел деревенский колокол. Начальник заставы утонул в полумраке, сливаясь со своими. Сдержанно раздались голоса:
– Энто не дело, чтобы биться…
– Айда назад. Приказ? Скажем, что убегли…
– Вестимо. Охота в такой день… Худько слез с Партийки и, разминая ноги, бросил в мрак:
– Скидай шапки, братва! К заутрене звонят. И пошел к линейке.
– Христос воскрес, православные. А ежели хто из вас коммунист, без Бога, то с праздником воопче! В такый час быться? Ну его к бису, православные!
– Сам ты, харя, коммунист, – весело ответил один из красноармейцев. Другой крикнул подходящему вестовому:
– Куда идешь? Заштрелю!
Худько остановился. С линейки спросили:
– Разговеться то у вас есть чем, господа охфицеры?
– Ныма, товарищи, – в тон ответил Ходько, шаря в карманах. – Так что один табак. Виктор Павлыч, ты слив щэ не поив?
– Пошамал уже. Только косточки.
Начальник заставы выехал вперед.
– Так как же, православные? Биться? Грех-то ведь. Белые у нас развелись, красные, а Бог-то один для всех. Верно? И потом все одно – порубим мы вас за милую душу аль в плен возьмем. Верное слово.
– Что порубите – так, – ответил, выпячивая кривую грудь Свистулин. – Ишь, храбрый какой! Вас пятеро против нас, да пулемет. А касательно плена – дудки-с. На-ка, выкуси! В плен не пойдем. А разойтись по хорошему ради воскресения Христова, это я согласен.
– «Христос воскресе из мертвых смертию смерть поправ…» – запел вполголоса Худько, садясь на лошадь.
– Эх, було времьячко: и ковбаски тоби, и горилка…
– Так, – задумался головной. – Что я и на нас крест имеется. С Богом, православные. Христос воскресе! – и повернул коня.
– Воистину! – сказал кадет, стыдясь неожиданных слез своих. – Может, и вы и мы еще в церковь поспеем. Нам недалеко, в Ивановскую. С Богом!.. Хорошо жить на свете, Свистулин. Правды еще много.
Прапорщик ничего не ответил, ехал с непокрытой головой, вслушиваясь в далекий звон.
Дождевая сетка молочной стеной выросла, все расширяясь, между разъездами. Застучала по мосту линейка.
Худько до самой Ивановской рассказывал про розговенье на Посядах, родном хуторе на Ворскле, про ковбаску, куличи прямо в аршин, про дивчат в новых корсетках, плахтах и о том, как всю эту привольную и тихую жизнь смели "ограрные" реформы.
(Новое русское слово. Нью-Йорк. 1972. 30 апреля).
Майский барин
(рисунок с натуры)
На суде он вел себя вызывающе — острил, обрывал свидетелей, весело раскланивался с кем-то из публики, во время речи обвинителя попросил разрешения «выйти курнуть». Председатель Петроревтрибунала несколько раз призывал его к порядку, грозил увеличением наказания, но это нисколько не помогало: подсудимый знал, что расстрел — высшая мера наказания, а расстрел был обеспечен.
Высокий, стройный, с шапкой светлых, вьющихся волос и лукавыми, чуть-чуть продолговатыми глазами, Майский Барин и теперь, после пятимесячного заключения и тяжелых принудительных работ, был как-то вызывающе, как-то неуместно красив, хотя и казался старше своих двадцати лег. Гораздо старше… У юноши его возраста не могло быть такой глубокой складки у рта, такого самообладания со склонностью к цинизму, такого надтреснутого голоса.
И вместе с тем этот человек, этот светлокудрый мальчик, так рано познакомившийся с вином, женщинами, легкой наживой, кровью, человек, для которого убийство было только «мокрым делом», а вооружённый грабеж — «сбором лимонов», — казался иногда доверчивым глупым щенком, раздавленным настигшими его колесами…
Начался допрос свидетелей. Первой ввели старуху, дочь и внуков которой подсудимый убил при налете на квартиру; старуха спаслась, притворившись умершей от испуга.
— Вы узнаете подсудимого? — спросил председатель.
— Узнаю, узнаю, — залепетала, плача, старуха, — это убийца моих дорогих…
Подсудимый встал и сказал, снимая воображаемую шляпу:
– Разрешите представиться мадам, — Майский Барин, он же — барон Мерин и граф Панельный. Хотя мы, кажется, уже знакомы. Я имел уже честь бывать у вас…
В публике захохотали. Кто-то визгливо крикнул:
— Браво, Петька!
Петька грозно сдвинул брови…
— Это ты, Канарейка?.. Ты не умеешь вести себя в благородном обществе. К тому же это — суд, а не опера…
Председатель взялся за колокольчик. Звонил он долго, широко размахивая рукой и подпрыгивая в кресле; звонил так, как звонят обыкновенно сторожа сельских школ — с сознанием всей важности порученного им дела. Мне показалось даже, что я видел его где-то, этого председателя, — не то на какой-то станции, не то на крыльце школы…
Второй свидетель — грузный лавочник из числа тех, что «как же-с, мы всячески поддерживаем советскую власть», — переваливаясь с ноги на ногу, обстоятельно рассказал, как грабили его соседа, как выносили в автомобиль платье, ценности, серебряные иконы, как зарезали хозяина и его дочь — девочку лет семи.
— Это неправда! — вскричал Майский Барин так громко, что один из караульных выпустил винтовку. — Никогда я детей не убивал…Что ты брешешь, морда?
— Прошу здесь не выражаться, — заявил председатель, — и не перебивать свидетелев.
— Не «свидетелев», а свидетелей. Научись говорить сначала, а потом и лезь в председатели… Ну, довольно, довольно звонить, молчу! — И Майский Барин сел под одобрительный визг все той же «Канарейки».
Ввели какую-то барышню с перевязанной головой, потом двух дам, чекиста, которому подсудимый крикнул: «А-а, мое вам! Как живем-можем?», извозчика, дьякона, опять барышню… Все они говорили не в пользу Майского Барина: убийства, грабежи, бесшабашный разгул, швыряние «лимонов» во все стороны…