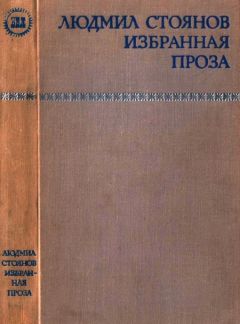— Поторопимся, повозка ждет нас, не будем терять времени.
Беру его под руку, и мы отправляемся.
Но на месте никакой повозки не оказывается.
— Черт бы побрал этого малого! Куда он исчез? Казался таким добрым, отзывчивым, готовым на все… До чего же мерзка человеческая натура, — бормочу я. — Куда же нам теперь?
Вот тут, на этом самом месте, стояла повозка, человек обещал подождать — и на тебе! Да еще после того, как я рассказал о том, что доктора сбежали…
Топчемся на месте — авось случай пошлет еще какую-нибудь повозку. Ночь холодная, и мой спутник зябко кутается в шинель, которая висит на нем, как на вешалке.
Он высох, как щепка, таким тонким кажется силуэт его в ночном сумраке! Голос у него осипший, невнятный.
— Я, пожалуй, присяду…
Он опустился на кучу щебня, заготовленного для покрытия шоссе, затем оперся на локоть и под конец лег на спину.
— Нет, нет, — говорю, — господин поручик, так вы простудитесь, вернемся лучше в школу, дождемся рассвета, а там видно будет…
Он снова поднялся, и мы двинулись по шоссе обратно, в сторону моста. Впереди вдруг показалась повозка: поравнявшись с нами, она остановилась.
— Сам бог послал тебя, — обращаюсь я к вознице. — Давай посадим этого больного офицера.
— Можно, — отвечает солдат.
— Куда направляешься?
— За фуражом.
— Поезжай сначала к Черной Скале, а потом уже за фуражом вернешься…
— Слушаюсь…
Мы садимся, и телега трогается. Но куда мы едем? Что это за Черная Скала, куда нам следует добраться? Подпоручик Костов уселся на груде пустых мешков; это неблагоразумно… Впрочем, есть ли хоть что-нибудь благоразумное во всей этой бессмыслице войны? Все равно, не от одного пострадаешь, так от другого.
Короткая летняя ночь пролетела в этих нежданных тревогах. На востоке, там, куда мы держим путь, забрезжили отблески зари; холмы, деревья, кусты — все подернулось розовым налетом.
Мы молчим. Возница дремлет на сиденье, мои глаза тоже смежаются; больной офицер спит, свернувшись в клубок, на пустых мешках. Ровная дорога пролегает по сжатому полю. Снопы лежат неубранные — война спутала все расчеты.
Война. Она и позади нас, и перед нами. Это жизнь, выведенная из своего русла, в слепом, неудержимом безумии, в припадке опьянения. Вот они, людские стада, двинувшиеся, как тысячелетия тому назад, навстречу смерти… Они пьют вино лжи и только перед лицом смерти — когда уже поздно — прозревают правду, познают смысл славы, священную символику знамен, великое предназначение храбрости и доблести, всю эту твердую сталь, из которой куются цепи для оболваненного человечества…
Солнце гигантским шаром всплывает над далекими горами, но сегодня оно почему-то кажется мне каким-то особенным, будто я смотрю на него откуда-то с другой стороны жизни, из далеких, первобытных времен, куда забросила меня дикая, отвратительная и жестокая сила. И думается мне, что придется идти еще долго-долго, чтобы увидеть его истинным и благодатным солнцем, солнцем летнего труда, сочных, налитых плодов и непринужденной земной радости. Оно озаряет эти постылые, усеянные безымянными могилами, покинутые жизнью поля, на которых лишь кое-где торчат ряды поставленных из милости деревянных крестов. Даже возница, который было задремал, говорит со вздохом:
— Доброе солнце, как раз для работы.
Он хлестнул лошадей, и те пошли быстрее. Вокруг незнакомые места, чужая, неприветливая земля.
— Что это за Черная Скала? — спрашиваю я возницу. На его смуглом, обожженном солнцем солдатском лице — непреклонное упорство и неистощимое терпение крестьянина. Он не смотрит на меня, и я знаю почему.
— Старая граница, — отвечает он. — Пропускной пункт на старой турецкой границе.
— А, значит, на старую границу отходят.
— Кто?
— Победители под Люле-Бургасом и Чаталджей.
Он не понимает намека.
— Там теперь госпитали и обозы.
— А мертвые… им куда деваться?
Он неожиданно прибавляет:
— Ну, ладно, война, подрались бы месяца два-три — и по домам. А то куда ж это годится, уж скоро год, а конца не видать, люди успели состариться на войне.
— В это дело только ввязаться, потом не выпутаешься. Так-то, братец. Как ступишь в грязь да выпачкаешься, — потом уж шагаешь, не разбирая дороги.
Оборачиваюсь и окидываю взглядом дорогу, белесую пыль и больного офицера в повозке. Он лежит недвижимо, но, судя по дыханию, еще жив. Дотрагиваюсь до его ноги, и он открывает глаза.
— К старой границе отходим, — говорю ему. — Крепись, это конец войне!
— Плохие слухи ходят, — прибавляет возница. — Вам, верно, больше известно, чем мне.
— Ты из каких краев?
— Из Котела.
— Ну, тебе никакая опасность не угрожает. На твой Котел никто еще не зарится.
— Так неужто все это правда?
— Правда. И старая граница, братец, не спасет. Заключали бы мир, пока не поздно.
Нас догоняет другая повозка.
В ней старые знакомые: полковник санитарной службы, бригадный генерал и еще один офицер. У них такой вид, будто они едут в отпуск, так они веселы и оживленны. Они не отвечают на мое приветствие. Может, не узнали или так увлеклись разговором, — разумеется, о политике, о спасении отечества… Мы не можем угнаться за сильными артиллерийскими конями, — их повозка вскоре опережает нас и исчезает в клубах серой пыли.
У нас обычная обозная телега, отощавшие кони; возчик то и дело подхлестывает их кнутом. Мы едем уже несколько часов, а Черной Скалы все не видно. Солнце печет нещадно, одежда обжигает тело. Бедная земля, скудная, голая. Бесплодные холмы, поросшие низкой травой.
— Плохая земля в этих краях, — говорит возница в унисон моим мыслям. — Куда ей до нашей…
Он смотрит на меня исподлобья, испытующе, словно стараясь понять, что мы за птицы и чем больны. Странно, что раненая нога не дает о себе знать: там, под звездами Голака, рана словно бы успокоилась, или же я так ослабел, что не обращаю внимания на легкую боль и непрестанный зуд.
— Черт бы взял эту рану, — не дай бог раскроется или начнет гноиться!.. — замечаю я словно про себя и ощупываю разрезанный до подошвы сапог, перевязанный по голенищу веревкой…
— Раз уж добрался сюда, дела твои в порядке, — откликнулся возница и снова стегнул лошадей.
Вот и лагерь у Черной Скалы: широкая поляна с множеством палаток — госпитали, лазареты и прочие тыловые учреждения. Здесь кипит жизнь, — вернее, царит полная неразбериха.
Мы останавливаемся по очереди у каждой из палаток, разыскивая холерный лазарет из Царева села. Где эти герои-медики, что бросили своих больных среди ночи и улизнули втихомолку?
Оказывается, наш лазарет присоединили к другому, и нам нужно добираться до села Царварица по ту сторону старой границы.
Я расталкиваю подпоручика и объясняю ему обстановку. Он совершенно ослабел и пал духом.
— Ну как, повезешь нас? — спрашиваю возницу.
— Нельзя, парень. И без того я задержался, попадет мне от унтера… Бить будет.
Мы слезаем и отходим в сторону от дороги на травку.
Товарищ мой тут же садится, я остаюсь на ногах.
В неясном говоре, в общем беспорядке и скрытой панике чувствуется иссякающая сила потока, отхлынувшего восвояси.
1
Мы сидим на обочине шоссе и молчим. Мысли наши тонут во мгле, обрывочные, беспорядочные. Что еще ожидает нас? Удастся ли выбраться невредимыми из чистилища?
Движение на шоссе оживляется. Спешат повозки, обозы, люди. Временами поток останавливается, на шоссе образуется пробка, слышатся крики, ругательства. Все торопятся уйти, убежать из этих прокаженных мест, испоганенных блевотиной войны. Давно не бритые лица покрыты серым налетом пыли и засохшего пота. Это безумцы, истинные безумцы… ни капли разума в их круглосуточной страде, в их спешке, суете. Так размышляю я, и вдруг слышу слова подпоручика Костова, которые приводят меня в изумление.
— Эти — сумасшедшие, ей-богу, а те, наверху, — преступники и глупцы…
Я смотрю на него. Он тяжело дышит и прячет лицо в коленях. Оно стало землистого цвета, глаза — мутные, угасшие.
— Что ты сказал?
— Но и это не научит их уму-разуму.
— Кого?
— Да вот эту вьючную скотину.
— Ты хочешь сказать — доблестную болгарскую армию?
— Не только ее… Всех… Как им не приходит в голову, что они только игрушка…
— Эх, приятель, лишь бы шкуру спасти, а там… видно будет!
Дрожа от возбуждения, он хватает меня за руку.
— Нет, поклянись… обещай, что будешь бороться!