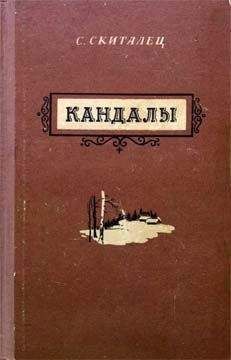Это был удар оглушающий, но не смертельный: последствия удара, пришедшегося по крепкому мужику, сытому консерватору, были еще впереди. Если средневолжский мужик перестал быть массовым хлеботорговцем, то у запасливых еще были запасные амбары непроданного хлеба, нужда еще не сразу стучалась в мужицкие ворота. Но неизбежное, планомерное, безостановочное обеднение, которое могло привести только к полному разорению, началось вместе с катастрофическим сокращением хозяйства: сравнялись по своему положению торговопромышленные села с теми «курянами» и «странними», которые, как наемные рабы, массами приходили к ним прежде на летние заработки.
В один день чьим-то росчерком пера Средняя Волга вернулась к обычному для всего крестьянства «малому наделу», давно забытому, выпаханному и почти заброшенному без удобрения. Приволжскому мужику, избалованному арендой, предстояла еще неведомая для него судьба бедного русского мужика. И не только тысячи лошадиных сил оказались ненужно лишними: людскую силу тоже стало некуда девать в обезземеленных селах и деревнях. Из десяти тысяч кандалинцев добрая половина вынуждена оказалась искать применения своим силам в других местах: началась тяга в город, на фабрики, заводы и в купецкие экономии — прямо в лапы крупного капитала.
Исчезла причина, по которой Неулыбов боялся дать сыну образование, чтобы не ушел в город от налаженного большого хозяйства: теперь он сам оказался в городе, и сыну указывал идти туда же. Такие люди, как Челяк и Елизар, давно уже считавшиеся не крестьянами, если сами еще не переселились в город, зато детей своих готовили к городской жизни и городской борьбе за жизнь, да и сами дети, подрастая, стремились к продолжению образования, благо при сельской министерской школе стараниями земских деятелей было пристегнуто двухклассное училище с двухгодичным курсом, окончив которое, можно было держать экзамен куда-нибудь повыше; это была единственная лазейка для желающих выйти из закупоренного в деревне «подлого сословия». Сын Челяка Иван и сын Елизара Вукол к шестнадцати годам кончили этот курс и в этом же году готовились к экзаменам в учительский институт, находившийся в губернском городе. Только Лавру пришлось кончить свое образование начальною школой: отец, разбитый параличом, сам был обузой для семьи, а семья не видела для Лавра иного пути, как, достигнув шестнадцати лет, жениться, отделиться от брата и крестьянствовать, как крестьянствовал Яфим, у которого уже подрастали дети.
Теперь Лавру было около шестнадцати лет, Вуколу почти семнадцать.
Со времени поджога купецкого стога Вукол не приезжал более в Займище, но, собираясь в начале августа в губернский город держать конкурсный экзамен в институт, решил повидаться с Лавром, написавшим ему, что дед Матвей плох и хочет перед смертью видеть внука.
Вукол поехал в Займище обычным способом: подвез по пути земский ямщик Степан Романев — самый младший из Романевых — школьный товарищ Вукола, такой же медведь, как все Романевы.
Вот и околица со скрипучими воротами из цельных дубовых деревьев, шалаш привратника, откуда выходил, бывало, Качка отворять их; теперь отворил кто-то другой — должно быть, умер Качка.
Прямо против околицы завиднелась дедова изба, все такая же кряжистая, как и прежде, но Вуколу казалось, что он не был здесь с детства, когда бабушка в зимние вечера при свете лучины рассказывала им с Лавром грустные сказки.
Рядом с избой стоял новый амбарушко, срубленный из толстых кривых дубов, — прежде его не было, — а когда въехали в деревню, — у многих изб перед воротами виднелись обтесанные дубовые бревна. В Займище и прежде все пользовались общественным лесом, но не в таком количестве.
Степан остановил бричку на дороге против дедовой избы. Вукол, пожав ямщику руку, легко и ловко выпрыгнул из экипажа. Бричка покатилась, оставляя за собой облако тяжелой черноземной пыли.
Из калитки, заслышав ямщицкий колокольчик, вышел Лавр: это был теперь высокий широкоплечий парень в кумачовой рубахе и высоких сапогах. Вукол — в брюках навыпуск, в голубой ситцевой косоворотке. Одинакового роста, красивые, с загорелыми, свежими лицами, они встретились радостно.
— Встречай! — еще издали закричал Вукол. — Жив дед?
— Чуть жив! — говорил Лавр, слегка нахмурив брови. — Прежде, бывало, через улицу на гумно ползком шибко шпарил, а теперь уже и ползать не может — лежит пластом. Надоело Ондревне за ним убирать да замывать, перенесли его к Насте; Настя-то, когда овдовела, сюда воротилась с двумя ребятишками… Ну, срубили мы ей келью, бедненько живет, полоску-то ей помочью с Яфимом пашем, а жнет сама. Вот теперь она за дедом ходит, да уж недолго ему осталось маяться: скоро помрет, говорят, да он и рад помереть.
— Сколько ему годов теперь?
— Кажись, семьдесят пять, коли не больше.
— Мало! такому дубу сто лет бы жить! Помнишь, как он Чалку-то за хвост вытащил.
— А ты все еще помнишь это?
— Как не помнить?
— Работал он всегда за десятерых, на силу свою надеялся, а теперь под старость все отозвалось! Ну, да что было, то прошло!.. другие времена. Долго ты не приезжал после того случая: чай, помнишь? Погостишь у нас?
— Денька три можно, а потом отсюда пароходом в город…
— Что тебя больно заждались в городе-то? Видно, институт этот ждет не дождется? Пойдем в избу: Яфим давно тебя не видал!..
— Успеем, час ранний — шесть часов, солнышко чуть взошло! Я думал — спите вы все. Хочется мне прежде всего взглянуть перед отъездом на лес наш: бабье лето!..
— Что ж, погляди! — усмехнулся Лавр.
Они пошли проулком к обрыву. Вукол с нетерпением ожидал опять увидеть после долгой разлуки Грачиную Гриву из могучих дубов, гигантские осокори на горизонте. Думая о городе, еще сильнее чувствовал глубокую свою привязанность к деревне, где протекло милое, веселое, крестьянское его детство.
И вдруг остановился, недоуменно оглянувшись на друга, Лавр смотрел иронически… Леса не было! На его месте виднелись голые пни и мелкий кустарник. Не маячили вдали великаны-осокори, на горизонте лишь синел широкий Проран, хмурился горбатый Бурлак и белел, словно в сказке, старый бревенчатый городок с осьмиугольной башней, напоминавшей сахарную голову.
Исчез трехсотлетний лес, видавший времена царя Ивана Грозного, Ермака и Степана Разина! Исчезла красота, которую, как свою личную собственность, сотни лет оберегало крепостное право.
— Порубили! — печально прошептал обескураженный племянник.
— Нешто! — иронически ухмыльнулся дядя.
— Когда?
— Недавно, как только вода сбыла! Нам и самим было жалко рубить, долго не рубили, да и наследник-то примолк было: думали — не спятился ли? Потом вдруг дошло до нас: экстренно надо рубить! И срубили!
— Жалко! — вздохнул Вукол.
— Жалей не жалей, все одно! Не мы — так срубил бы наследник! Так уж лучше мы! Лес этот наши прадеды берегли да растили! Дубы хорошие: кажнему мужику на амбар либо на баню хватит! А лес — он что? Пройдет время — опять вырастет!
— Конечно, это я так… наше детство вспомнил… мы тоже росли здесь!
И, помолчав, твердо сказал:
— Без леса другая будет жизнь!
— Знамо, без него будто шире и светлее стало: Проран и город видать. А вечером городские огни светятся через Волгу. Когда с Жадаевской горы подъезжаешь к кашей деревне, случается ночью, кажется, будто в нашей деревне городские фонари зажглись! — Дядя помолчал и опять повторил: — Коли пришло время порушить все — так уж лучше мы!
— Да, лес! — печально вздохнул Вукол. — А помнишь бабушкины сказки? А поверье про огненного змея? Все это как будто из лесу шло? Суеверие — и вместе с тем — поэзия!
— Эх, — по-своему воодушевился Лавр, — кабы ты видел, как валились старые дубы! Только гул шел по лесу, дрожала земля! А уж сокорей таких боле не увидим: им, чай, лет по полтысячи было! — Лавр помолчал и почему-то заговорил про отца: — Чудесное дело: что-то повывелись у нас бородачи: ни Яфим, ни мы с тобой бородачами, пожалуй, не будем, а ведь он — бородач!
Вукол не ответил, засмотревшись на широкую гладь Волги, простиравшуюся за срубленным лесом, вплоть до беленького городка с осьмиугольной башней. Казалось — рукой подать стало от деревни до города.
— Ну, пойдем! — помолчав, сказал Лавр, — проведаем старика!
Разбитый параличом, дед Матвей лежал в сенях маленькой кельи, в которой обитала горемычная вдова Настя с двумя осиротевшими детьми: к умирающему лишних людей не пускали; язык у старика плохо ворочался, отходил дед. Пропускали только тех, с кем сам он хотел попрощаться.
Из калитки вышла Настя, чем-то теперь напоминавшая отца, — высокая, костистая, желтая, с большим лбом.
— Ребяты! — полушепотом позвала она и махнула рукой Лавру и Вуколу, стоявшим рядом.