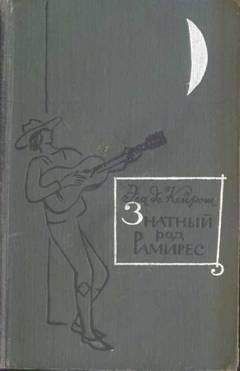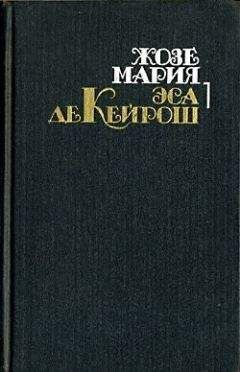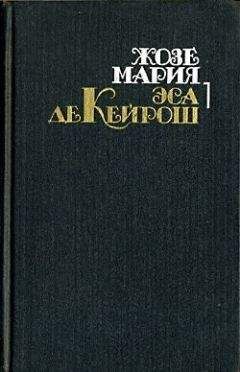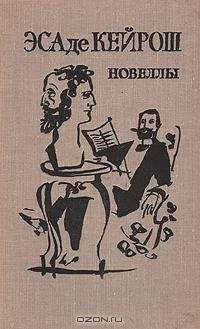Еще большую отвагу проявил он в долгой битве с губернатором. Как водится, его ненависть родилась из многолетней, можно сказать, исторической дружбы, связывавшей семейство соседей по именьям — Рамиресов и Кавалейро. Подобно Гонсало, белокожему, белокурому, но уже лысеющему красавчику с подкрученными усиками, Андре — могучий красавец с поэтической гривой, лихо закрученными усами и поволокой больших глаз, тоже начинал с романтики и святого искусства. Некогда он с пламенным воодушевлением декламировал стихи Виктора Гюго и приступил к собственной поэме. Но, обнаружив в себе призвание к государственной деятельности, он быстро понял, что в Португалии служить власти выгоднее, чем писать стишки о свободе, и что надежней поэтому ставить не на левую, а на правую лошадку. В отличие от Гонсало, Андре примкнул не к оппозиции, а к правящей партии. Вскоре он стал губернатором Оливейры, где справлялся с «левой» пристяжной так же умело, как с коренником.
Едва ли он лицемерил, когда на приеме у короля и на светских раутах уверенно повторял: «В толще своей, в массе, Португалия глубоко предана монархии! Разве что поверху плавает накипь, грязноватая пена — студентишки да торговцы, — которую легче легкого удалить саблей». Однако ненависть Гонсало к Андре породили отнюдь не политические расхождения. Она возникла по мотивам сугубо личным.
В свою романтическую пору Андре, бывая ежедневно в Санта-Иренее, влюбился в сестру Гонсало, хрупкую красавицу Грасинью — «Фиалку из башни». Грациозная Психея отвечала могучему Марсу взаимностью. Управитель Рамиресов старик Ребельо уже кряхтел, выкраивая приданое малютке. Однако в период политической зрелости Андре смело пренебрег обязательствами. За такую обиду Рамиресы в былые времена обрушились бы с конными вассалами и пешей ратью «на гнездо Кавалейро и оставили бы на месте замка лишь обугленные бревна да повешенных на пеньковой веревке челядинцев». Гонсало же обрушивал лишь проклятия и посылал язвительные памфлеты насчет усов губернатора в «Портский вестник» — газетку, где родственник заведовал внешнеполитическим отделом и где отец Гонсало печатал подобные творения под той же подписью «Ювенал».
Казалось, ничто и никогда не могло охладить праведный гнев. Но вот Саншес Лусена любезно освободил избирательный округ, и в глухой стене, загораживавшей путь Гонсало к успеху, появился просвет. Дону Рамиресу осталось только пролезть в трещину и занять место в кругу политиканов, образовавших, как он видит, акционерную компанию по грабежу, или мягче — эксплуатации, управлению богатейшим поместьем, которым является Португалия. Осталось лишь лечь в постель и сесть на депутатское кресло покойника, поскольку парламентский мандат почти так же нужен, чтобы проникнуть в «товарищество», как диплом врачу.
Увы, пролезть в эту трещину нельзя, будучи «возрожденцем» и противником губернатора, от которого зависит и утверждение кандидатуры, и успех выборов. А перебежка из лагеря оппозиции в стан правящей партии и тем более примирение с Кавалейро, который, неслыханно обнаглев, пытается сделать любовницей ту, кого отверг в качестве жены, совершенно немыслимы. Впрочем… Разве один Гонсало ответствен за честь Грасиньи? Разве нет у нее мужа Барроло, куда больше обязанного следить за репутацией жены? И, наконец, кто имеет право так дурно думать о Грасинье, воспитанной в благородных традициях рода Рамиресов? Итог: Гонсало мудро прекращает войну Алой и Белой розы, распри Горациев и Куриациев. Он позволяет себя убедить, что перед «возрожденцами» у него столько же обязательств, сколько перед «историками» («и те и другие — добрые христиане»). Он с радостью узнает, что памфлет, где Кавалейро аттестован «новоявленным Нероном», совершившим «грязное и подлое покушение» на «целомудрие, чистоту и честь невинной девушки», где разоблачался «дикий, неслыханный произвол» губернатора, где говорилось о «политической агонии Португалии» и «вспоминались худшие времена абсолютизма, когда невинность погибала в застенках», — что этот памфлет вовсе не грянул громом над Оливейрой и не разразился благодатным ливнем над северной Португалией; напротив, он весьма польстил деспоту и донжуану намеком на лихо закрученные усы и чубчик, а также оповестил заинтересованных дам и девиц, что красавец губернатор не зря живет на свете. Короче, если Гонсало до сих пор не кидался в объятия Андре, «то из одной только застенчивости». Теперь он кинулся. Кинулся отважнее, чем всегда, ибо речь зашла о том, что именно Гонсало, потомок славных Рамиресов, обязан склониться перед долгом и бескорыстно, жертвенно отдать свой талант, знания, мужество несчастной родине…
Эса де Кейрош не был бы истинным художником, если бы развенчивал героя с прямолинейностью, обычной для авторов вступительных статей. Он вовсе не отказывает Гонсало в добрых поступках и порядочности, в сердечности и уме. И все же каждый из этих поступков, в том числе единственный «героический», окрашен иронией, иронией еще более едкой как раз потому, что она освещает негативную сторону, на первый взгляд, положительных явлений.
Один, но «героический» пример. Отправляясь верхом с визитом к виконту Рио Мансо, Гонсало опять встречает задиру-охотника Эрнеста по прозвищу «Бабник», от которого уже приходилось спасаться что есть мочи. На этот раз Бабник еще наглее. Обозвав Гонсало «ослом», да еще «дерьмовым», он с дубиной преграждает путь кобыле. Но история не повторяется, и этот раз оказывается последним. Как будто получив подмогу от всех своих воинственных предков, Гонсало вдруг побеждает страх и сечет негодяя старинным трехгранным хлыстом из кожи бегемота; он бросается на другого «мерзавца» Мануэла, посмевшего ради дружка стрельнуть в фидалго. Итог кровавой битвы — разорванное ухо. Но, кроме того, диван, рассеченный тем же хлыстом, когда Гонсало в упоении повторял дома рассказ о подвиге. И, конечно, телеграммы, посыпавшиеся в Санта-Иренею из Вилла-Клары, из Оливейры, из Лиссабона от бесчисленных друзей и родственников, восхищенных победителем. И городской банкет с огромной чашей пунша, пламеневшей на бильярде. И страх, что вернутся времена смуты. И благодарственный молебен у св. Франциска, покрыть издержки по которому командор Баррос «почитал бы за честь, черт побери!». И бурная реакция провинциальной и столичной прессы («Портский вестник», подозревая, что в дело замешана политика, яростно нападал на правительство, а «Портский либерал» склонялся к тому, что гнусное покушение на знатнейшего из дворян и блистательнейшее дарование молодой Португалии не обошлось без местных республиканцев). И голоса на выборах. И национальная слава… Ей поистине нет цены, так как автор славит героя без всякой почтительности: если проучить нахала плеткой — событие на всю империю, то каков герой и какова империя?
Насмешка над ними становится острее, ирония — глубже, так как Эса создает и вызывает себе на помощь целый коллектив прозаиков и поэтов, первый среди которых — Гонсало Мендес Рамирес.
Нет, он не принялся за исторический роман в двух частях, но повесть страничек на двадцать — тридцать, а то и на все сто прельстила его своей легкостью. Почему бы, в конце концов, и не создать шедевр, как просит «увы-патриот»? Почему бы не напечатать в солидном журнале, где сотрудничают профессора и министры, героическую легенду, обнаруживающую академический склад ума ее автора и прославляющую бесстрашие древних Рамиресов? Идея весьма заманчивая с точки зрения перспективы на политическом поприще. Кастаньейро прав, в наше время перо, как в былые времена шпага, вершит судьбами страны…
Гонсало отважно берется за перо, тем более что вещь, которую он хотел написать, уже хранится в фамильном архиве. Полвека назад в местном альманахе «Бард» дядя Дуарте напечатал полную романтических страстей поэму «Санта-Иренейская крепость». Нерадивому племянничку оставалось, плюнув на счеты между родственниками, лишь черпать полной горстью сокровища дяди да перекладывать белые стихи на серую прозу — задача нелегкая, если учитывать творческие возможности Гонсало, после долгих мук выдавившего «бледные, длинные лучи… в высоком длинном зале». Эса де Кейрош не переоценивает этих возможностей. Он пришпоривает ленивого Пегаса с помощью писем-воззваний Кастаньейро, умоляющего закончить вдохновенный труд и выполнить долг перед Португалией. Силою точно рассчитанных обстоятельств тащит Пегаса под уздцы, когда тот упрямо пятится назад и сворачивает в сторону. Ставит подпорки каждую минуту, когда крылья несчастного одра беспомощно опускаются и робкая фантазия иссякает.
Из всех, кто спешит на выручку к отечественному Вальтеру Скотту, кроме дяди Дуарте, надо, пожалуй, особо отметить помощника провизора, скромного пекарского сына, но великого поэта Видейру, печатавшего любовно-патриотические стихи в «Независимом оливейранце». Сочинив героическое «Фадо о Рамиресах» и дополняя его все новыми куплетами, Видейринья-гитарист словно аккомпанирует литературным подвигам Гонсало и учит собственным примером, как надо воспевать древний и знатный род.