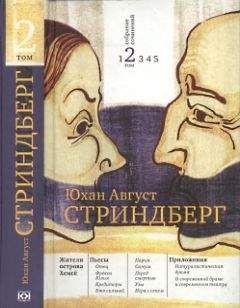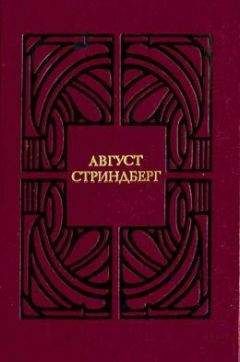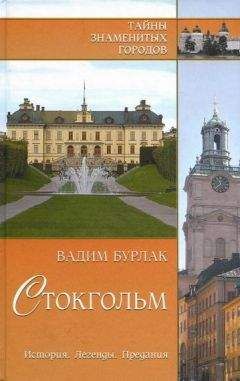— Это я знаю, что никто больше не хочет быть работником! Все ищут работы в городах, а тут, на островах, собирается всякий отброс с материка. Порядочный народ не идет в шхеры, им на это надо особые основания. Поэтому-то я и повторяю: смотри в оба!
— Ты, Густав, должен был бы смотреть в оба,— возразила старуха,— чтобы привести в порядок твое добро. Ведь настанет время, когда оно будет тебе принадлежать! Ты должен был бы оставаться дома, вместо того чтобы постоянно скитаться по морю, или, по крайней мере не отвлекать людей от работы.
Густав ощупал одну гагару, а затем ответил:
— Ах, мать, ты ведь тоже любишь, когда на столе появляется жареное, после того как всю зиму подавалась соленая свинина и рыба; так тебе не следует так говорить. Впрочем, я ведь не хожу в шинок, а какое-нибудь удовольствие должен же человек себе доставить. Слава Богу, мы не голодаем, и в банке есть немного денег; дом наш не приходит в упадок, не гниет. Если загорится, то пусть его горит — он застрахован.
— Дом не гниет, это я знаю, но все остальное рушится. Заборы в полях должны быть исправлены, канавы должны быть очищены. Крыша на конюшне настолько сгнила, что дождь льет на скотину. Нет ни одного несломанного мостка, лодки все прогнили, как трупы, сети требуют починки, а молочный погреб необходимо покрыть заново. И так далее. Многое должно быть сделано. Но когда же все это будет? Теперь посмотрим, нельзя ли это привести в порядок, раз мы нарочно для этого взяли работника. Будет видно, если Карлсон окажется неподходящим человеком.
— Пусть делает! — заворчал Густав, проведя рукой по коротко остриженным волосам, торчащим кверху, как иглы. А вот и Норман! Иди выпей чашечку, Норман!
Норман, маленький, широкоплечий, светло-русый, с еле пробивающимися усиками и голубыми глазами, вошел в комнату и, поздоровавшись со старухой, сел рядом с товарищем по охоте.
Оба героя достали из карманов куртки свои глиняные трубки и набили их «черным якорем». Тогда, попивая смесь кофе и водки, они по обыкновению охотников стали припоминать все случившееся с ними на море — выстрел за выстрелом. Они осмотрели всех птиц, пальцами исследовали раны, сосчитали все дробинки, отыскали следы неудачных выстрелов. Наконец, они составили план новых поездок.
В это время Карлсон в кухне знакомился с своей спальней.
Кухня помещалась там, где крыша кончалась и походила на опрокинутую вверх дном плоскодонку, плавающую на воде. Груз состоял из всевозможных предметов. Высоко, под самой потемневшей крышей висели на балках сети и рыболовные снаряды; под ними сушились доски и лодочные планки, пакля и конопля, завозные якоря, кованое железо, пучки лука, сальные свечи, ящики с провизией; на боковой балке лежала целая вереница свеженабитых чучел для приманки; были брошены одна на другую овечьи шкуры; с третьей балки болтались непромокаемые сапоги, куртки, рубашки, чулки, а между балками лежали копья с острогами, палки с кожами угрей, удочки и якоря.
У окна стоял простой деревянный обеденный стол; вдоль стен стояли три раздвижных дивана, покрытых грубыми, но чистыми простынями.
Один из них старуха указала Карлсону. Когда она вышла со свечой, то приезжий остался в полутемноте, слабо лишь освещенной огнем из печи и короткой полоской лунного света. Луна бросала на пол тень от косяков и перекладин окна. Из скромности огня не зажигали, потому что девушки тоже спали в кухне.
Таким образом, Карлсон разделся в полутемноте. Он снял с себя платье и скинул сапоги; затем он из кармана куртки вынул часы, чтобы завести их при свете очага. Он воткнул ключ в отверстие и начал заводить часы несколько неумелой рукой, так как они у него шли только по воскресеньям и в торжественных случаях. Вдруг из-под одеял на одной из кроватей раздался ворчливый голос:
— У него даже и часы есть!
Карлсон вздрогнул, взглянул по направлению, откуда раздался голос, и увидел при свете печки косматую голову с парой сверкающих глаз, опирающуюся на волосатые руки.
— Твое ли это дело? — возразил он, чтобы не промолчать.
— Мое, ведь звонят же в церкви, хотя я туда никогда не хожу! — отвечала голова.— Во всяком случае это тонкий мужчина: у него даже сафьяновые голенища.
— Еще бы! И калоши у него тоже имеются, если уж об этом идет речь!
— Ах, у него и калоши есть! В таком случае он, наверно, может и рюмочку поднести!
— Да! Он и это может, если надо,— ответил Карлсон уверенно и пошел за своей фляжкой.— Прошу!
Он вынул пробку, выпил глоток и протянул фляжку.
— Да благословит его Господь. Я, право, думаю, что это водка. Ну так счастливого года и добро пожаловать! Теперь я буду говорить с тобой на ты, Карлсон, а ты будешь меня называть дураком-Рундквистом, потому что так меня обыкновенно зовут.
Затем он опять забрался под одеяло.
Карлсон разделся и пополз в постель, повесив предварительно часы на солонку и поставив сапоги на середину комнаты так, чтобы хорошо были видны красные сафьяновые стрелки.
В кухне настала тишина, и слышен был лишь храп Рундквиста возле печки.
Карлсон не спал и думал о будущем. Как гвоздь вонзились в него слова старухи о том, что он должен стать выше других, чтобы поставить хозяйство на надлежащую высоту. Этот гвоздь причинял ему боль; ему казалось, что у него на голове нарост. Он думал о секретере из красного дерева, о рыжих волосах и недоверчивом взгляде хозяйского сына. Он представлял себя бегущим туда и сюда с звенящей в карманах брюк связкой ключей; кто-то приходит и просит денег; он поднимает кожаный фартук опускает руку в карман, вытягивает связку и перебирает ключи, как будто распутывает паклю; найдя самый маленький ключ, входящий в замочную скважину, он вставляет его в нее, точно так же, как вечером просунул в скважину свой собственный мизинец; но замочная скважина вдруг стала похожа на глаз с зрачком, становится круглой, большой и черной, как дуло ружья, а на другом конце ствола вдруг видит он лукавый глаз хозяйского сына, который как бы караулит деньги.
Отворилась кухонная дверь, и Карлсон пробудился от дремоты. На середине комнаты, которую теперь освещала одна луна, стояли две одетые в белое фигуры, которые сейчас же юркнули в постель; кровать сильно заскрипела, как лодка, когда она ударяется о ветхие мостки. Что-то закопошилось в простынях, пока снова не настала тишина.
— Покойной ночи, девочки! — раздался хриплый голос Рундквиста.— Пусть я вам приснюсь!
— Очень нужно,— ответила Лотта.
— Молчи, не разговаривай с чудищем,— остановила Лотту Клара.
— Вы так… милы! Если бы я только мог… быть таким милым… как вы! — вздохнул Рундквист.— Да, боже мой, становишься стариком! Тогда уже нельзя поступать как хотелось бы, и тогда жизнь уже цены не имеет. Доброй ночи, детки, и берегитесь Карлсона: у него часы и сафьяновые сапоги. Да! Карлсон счастлив! Счастье приходит, счастье уходит! Счастлив тот, кого полюбит девушка! Что вы там ворочаетесь в постелях, девушки? Слушай-ка, Карлсон, нельзя ли мне получить еще глоток? Тут так страшно холодно; дует из печки.
— Нет, ты теперь больше ничего не получишь, потому что я желаю спать,— заворчал Карлсон, потревоженный в своих мечтах о будущем, в которые не входили ни вино, ни девушки, и почти освоившийся со своим положением главного рабочего.
Опять наступила тишина. Через обе затворенные двери доносился лишь глухой шум голосов охотников, увлекшихся воспоминаниями, да ночной ветер завывал в трубе.
Карлсон опять закрыл глаза. Задремав, услышал он, как Лотта твердила что-то наизусть вполголоса, чего он не мог понять, но что сливалось в один протяжный шепот. Наконец он расслышал следующее:
— Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого… Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков, аминь. Покойной ночи, Клара!
Через мгновение из постели девушек раздался храп. Рундквист, шутя или в самом деле, храпел так, что стекла в окне дрожали. Карлсон лежал в полудремоте и сам не знал, спит он или нет.
Вдруг приподнялось его одеяло, и мясистое, потное тело растянулось рядом с ним.
— Это Норман! — услышал он возле себя голос. Он понял, что пришел рабочий, который должен был спать вместе с ним.
— Ага, сторож вернулся,— раздался хриплый бас Рундквиста.— Я думал, что это черт, который вечером по субботам охотится.
— Ты же не можешь стрелять, Рундквист; у тебя же нет ружья,— ворчал Норман.
— Не могу? — возразил старик, чтобы сказать последнее слово.— Я могу из винтовки убивать и через простыню…
— Потушили ли вы огонь? — прервал его ласковый голос старухи, которая с порога взглянула в кухню.
— Да! — ответили ей хором.
— Так покойной же ночи!
— Покойной ночи, тетка!
Послышалось несколько вздохов, потом запыхтели, засопели, закашляли, и раздалось громкое храпение.