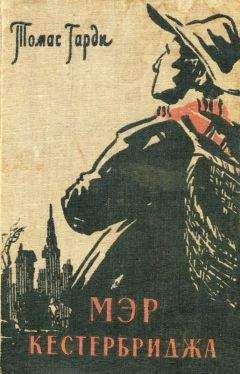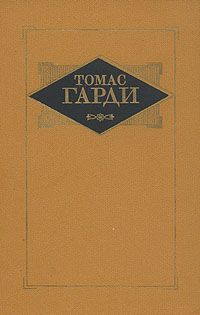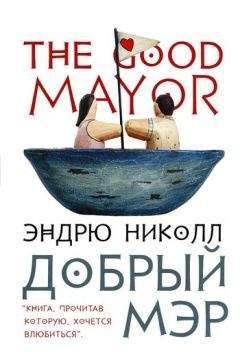Гарди не упоминает об этих волнениях среди сельской бедноты, пишет как бы шифрованным письмом. Мятежное выступление кестербриджских трущоб облекается в архаическую форму косного обычая (некогда распространенного на родине писателя), имевшего целью посрамить осквернителей брака. Читая описание шутовского обряда, под первым впечатлением вспоминаешь «Шествие бражников» — древний комос. Все же, обратите внимание: обличительная процессия подготавливается в строгой тайне, приурочивается к официальному событию — ко дню проезда через Кестербридж особы королевской фамилии, организаторы и участники действуют сплоченно, смело, дерзко и совершенно безнаказанно, наводя страх на блюстителей порядка. Мятежный отзвук слышен отчетливо. Времена стали не те, изменились условия жизни «коллективного характера», изменился его нрав. Гарди лучше пригляделся к фактам, более трезво оценил их. Все это сказалось, в частности, на структуре его романа. В «Мэре Кестербриджа» по-иному, чем во всех предшествующих книгах серии, расположились персонажи: расслоение и контрасты обозначились резче, выделился и выступает как главное действующее лицо трагический герой. Он обусловливает развитие сюжета, нагляднее всего выражает авторский замысел. Исчезли идиллические образы и сцены, возникавшие ранее на основе детских и юношеских впечатлений писателя. Характеры стали выпуклее, психологический анализ более обстоятельным, углубленным и выразительным. Внимание писателя сосредоточилось на трагической судьбе человека из народа.
Кестербридж — название вымышленное, его прообраз — город Дорчестер сороковых годов, любовно и тщательно описанный со всеми его примечательными архитектурными и бытовыми подробностями. Разумеется, это не просто площадка действия, воспроизводящая колорит времени и обстановки. Гарди настойчиво подчеркивает его связь с деревней, их родственную близость: «Кестербридж был своего рода продолжением окружающей его сельской местности, а не ее противоположностью». Образная характеристика исподволь возбуждает теплые чувства: «Пчелы и бабочки, перелетая с пшеничных полей, окаймлявших его с одной стороны, на луга, примыкавшие к другой, летели не вокруг города, а прямо над Главной улицей, видимо не подозревая, что пересекают чуждые им широты».
Отчетливо сказывается неприязнь писателя к капиталистическому городу — средоточию зол буржуазного общества. Для него такие города — «инородные тела… в зеленом мире, с которым у них нет ничего общего».
Кестербридж потому привлекает Гарди, что, продолжая быть «нервным узлом окружающей его сельской местности», он не уродует ее естественного вида, в своем облике сохраняет местную традицию, демократический дух, черты индивидуальной неповторимости. Автор не скрывает контрастов, наложивших мрачный отпечаток и на этот «редкостный город», с горечью говорит о глухих кварталах с домами-трущобами, куда солнечный луч не проникает даже летом.
Еще одну особенность Кестербриджа оттеняет писатель. Это древний город, каждой своей улицей, переулком, двором напоминающий о временах тысячелетней давности. Гарди судит о своей эпохе, апеллируя к истории, привлекая в свидетели и древний Рим и шекспировскую Англию. Он делает это искусно. Например, когда заставляет героя действовать в гигантском амфитеатре, оставшемся после римлян. Сама обстановка, расчетливо выбранная сценическая площадка возвеличивает фигуру Хенчарда, придает значительность его поступкам. На сумрачной арене он встречается с Люсеттой Темплмэн. Его бывшая возлюбленная в сравнении с ним, батраком ее мужа, кажется жалкой и ничтожной со своим дешевым маскарадом. Ее трусливый эгоизм перед благородным душевным порывом становится омерзительным, в особенности когда Хенчард, обещая хранить тайну, произносит торжественное: «Клянусь!» (гл. XXXV). Мир Доналда Фарфрэ и Люсетты Темплмэн не только эгоистичен и жесток, но и мелок, тщедушен — вот что внушает этот эпизод.
Чтобы раздвинуть узкие рамки Уэссекса, Гарди строит сложные, громоздкие декорации, но пользуется и обычной деталью. Тишина сопровождает первое появление Хенчарда. Слышен единственный звук — слабый голос птицы (кстати, замечено: птицы редко поют в книгах Гарди), распевающей «стародавнюю вечернюю песню, которую, несомненно, — с элегическим придыханием говорит автор, — можно было услышать здесь в тот же самый час и с теми же самыми трелями, каденциями и паузами на закате в эту пору года на протяжении несчетного множества веков». Так, едва заметным движением он раздвигает рамки времени, и о бездомном вязальщике сена начинаешь думать в поучительном масштабе столетий. Когда Гарди заставляет колеса крестьянских телег отбрасывать тени, похожие контурами на орбиту кометы, он протягивает нить в далекое пространство, и мысль следит за нею.
В самом конце книги в центр со второго плана выдвигается образ Элизабет-Джейн. Женские характеры у Гарди — тема самостоятельного разговора. О женщине он мог писать с редкостной душевностью, с искренней теплотой, с трогательным восхищением, особенно о женщине-труженице, обездоленной и гонимой судьбой. Достаточно вспомнить героиню романа «Тэсс из рода д’Эрбервиллей», чтобы почувствовать поэтическую прелесть чистой женственности, раскрывшейся в народной среде. В духовном облике Элизабет-Джейн есть привлекательные черты. Она отзывчива, верна искреннему чувству, чиста в помыслах и поступках… Но есть в ней что-то немощное и отталкивающее, ей не хватает жизненной силы, энергии. В отличие от Майкла Хенчарда его падчерица почти во всем покорна судьбе, безропотно влачит бремя убогого существования. И случай вознаграждает ее за смирение чувств: она, по словам автора, попадает в «широты, отличающиеся тихой погодой». Тогда «…все то лучшее, что было в натуре Элизабет, побудило ее, общаясь с окружающими неимущими людьми, открывать им (некогда открывшуюся ей самой) тайну умения мириться с ограниченными возможностями». Жалкая проповедь смирения — в характере Элизабет-Джейн, но она не вяжется с суровым характером только что оборвавшегося трагического действия. Немощные слова этой проповеди звучат в эпилоге, они едва различимы, и можно было бы не обращать на них внимания, если бы не чувствовалась их зависимость от более определенных суждений автора, подчеркнутых последней строкой романа: «Счастье — только случайный эпизод в драме всеобщего горя». Эта мысль не столь сторонняя для автора «Мэра Кестербриджа». Порой он был склонен отойти от социальной трактовки трагического, представить его в изначальных и вечных формах как проявление слепой и жестокой силы бытия. Тогда судьбы человеческие попадали под начало неумолимого рока. Пожалуй, не трудно понять, почему так случалось, почему вдруг конкретные, очень точные и глубокие социальные мотивировки подменялись отвлеченными, что порождало в писателе скорбные мысли, отбрасывало мрачную тень на его поэтические вымыслы.
Томас Гарди явился свидетелем острого кризиса буржуазного существования. Этот кризис не был обычным. Он знаменовал начало конца: наступала последняя стадия в развитии капитализма. Родина Гарди пережила сильные потрясения, заколебавшие хозяйство и культуру страны. Поднялась волна политической реакции. Во всей неприглядности открылась крикливая пошлость и казуистика либеральной идеологии, восторжествовавшей после поражения чартизма. Разносторонние наблюдения писателя, близкого народной, в особенности сельской трудящейся Англии, где глубокие сдвиги и тяжкие последствия кризиса были наиболее ощутимы, убеждали его в жестокости буржуазной цивилизации, в несправедливости и бесперспективности капиталистической системы. Он искал социальную почву, которая могла питать общество жизненными соками, не мешая их с отравой. Наивно мечтал о крестьянско-фермерской утопии, обращая взор в прошлое. К сладостным раздумьям примешивались грусть и горечь. Их сменяли скорбь и гнев. Время и факты все больше убеждали писателя в иллюзорности его романтической мечты.
Первые три романа уэссекского цикла — «Под деревом зеленым», «Вдали от безумствующей толпы», «Возвращение на родину» — завершаются счастливой концовкой, идиллией, торжеством героев, верных патриархальной традиции. В третьем из этих романов автор сделал приписку, рекомендуя читателю окончить его по своему усмотрению. В «Мэре Кестербриджа» подобных идиллических сцен нет и в помине.
Гарди с презрением относился к розовым оптимистам, к их «счастливому бездумью», позволявшему закрывать глаза на положение народа — «тех миллионов, — как он писал, — которые восклицают вместе с Хором из „Эллады“»:[2] «Победоносная несправедливость с хищным криком встречает восходящее солнце!». Трагедия этих миллионов раскрывалась тем внушительнее в трагических судьбах простых людей — героев Гарди, чем смелее изживал он реакционно-утопические иллюзии. Но обычно факты прошлого, события своего времени представлялись ему в прямой зависимости от конфликта между деревней и буржуазной цивилизацией, только в его пределах. Писатель лишал себя исторической перспективы, склонен был к мрачным философским размышлениям, и это отзывалось в его лучших книгах, в его лучших романах мотивами отчаяния и смирения, ослабляя волю, приглушая справедливый протест.