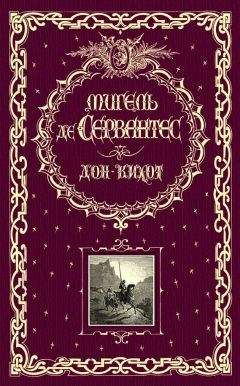Дон Кихот говорил с таким воодушевлением, так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в ту минуту, что он сумасшедший, напротив, все внимали ему с большим удовольствием. А он продолжал:
— Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье — бедность; студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье. А все же он находит для себя кусок хлеба, — пусть это будут крохи со стола богачей, пусть их приходится выпрашивать — «ходить за супом», как говорит ученая братия. А все же в холодную погоду у добрых людей всегда найдется для студента какая-нибудь печь или жаровня. Конечно, всем известно, что рубашек у студента маловато, а теплый плащ — большая редкость. Конечно, дорога, по которой он идет, нередко спотыкаясь, падая и вновь с трудом вставая, — дорога тяжкая, неровная, крутая, но все же при упорстве и настойчивости он мирно достигает желанной ученой степени и выходит в люди. Тогда для него наступают времена довольства и даже роскоши: он вкушает изысканные кушанья, облекается в пышные наряды, встречает всюду почет и уважение. Теперь сравните судьбу студента с судьбой воина-солдата. Беднее этого несчастного нет никого на свете; живет он на нищенское жалованье, да и это жалованье вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Правда, изредка ему удается поживиться грабежом, но не забудьте, что при этом он рискует не только своей жизнью, но и спасением своей души. Впрочем, и такая греховная пожива не часто выпадает на его долю. Вот почему он рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством; вот почему изодранный колет служит ему обычно и нарядным платьем, и рубашкой. В летний зной он жарится под раскаленным солнцем, а зимой коченеет от стужи, согреваясь одним своим дыханием. И не думайте, что с наступлением ночи он может забыться от всех этих невзгод в приготовленной для него постели. Он сам будет виноват, если эта постель покажется ему узкой, ибо от него зависит отмерить себе на голой земле сколько угодно места и разлечься на своем ложе, не боясь измять простынь. Но вот приходит, наконец, день битвы. Какие высокие отличия сулит он храброму солдату? Наденут на него в награду докторскую шапочку из бинтов и корпии, если шальная пуля прострелила ему висок; или получит он почетные увечья — останется безруким или безногим. Но если даже милосердное небо сохранит его целым и невредимым, он выйдет из боя таким же жалким бедняком, каким был раньше. И снова он будет ждать нового случая отличиться — новых сражений и побед, где ему легче потерять жизнь, чем заслужить награду. Скажите мне, сеньоры, задумывались ли вы когда-нибудь, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Вы скажете, что тут и думать не о чем, — что убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков — лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? У них всегда найдется чем жить — и жить весьма недурно. Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Теперь вернемся снова к вопросу о превосходстве военного дела над науками — вопросу, и поныне еще не решенному. Сторонники наук говорят, что без них военное дело не могло бы существовать, ибо война имеет свои законы, а открыть эти законы может только наука. Сторонники военного дела возражают на это, что самые законы не могли бы существовать, если бы не было военного искусства, ибо только оно защищает города, следит за безопасностью дорог и охраняет море от пиратов, — словом, водворяет повсюду мир и спокойствие. А ведь давно доказано, что то, что дорого стоит, должно цениться и ценится дороже. Известность и достаток покупаются ученым ценою упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка и многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Вот он стоит на часах, охраняя какой-нибудь бастион или равелин; он слышит, как враг ведет подкоп под эту башню, с намерением ее взорвать. Но, несмотря на эту страшную опасность, он не имеет права покинуть свой пост. Единственно, что он может сделать, — это доложить о подкопе капитану, а потом снова вернуться на свой пост и ждать, что еще минута — и он взлетит без крыльев под самые облака. Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, что среди открытого моря схватились на абордаж две галеры; солдатам приходится стоять на трапах шириной в два фута; прямо на них наведены неприятельские пушки — слуги смерти, грозящие гибелью; жерла их — на расстоянии копья; каждый неосторожный шаг может отправить сражающихся на дно морское; но несмотря на все это, побуждаемые чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрелы орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. И что особенно достойно удивления: лишь стоит одному низвергнуться в ту бездну, откуда нет возврата, как другой тотчас занимает его место[51]. Поистине большего мужества и отваги не найти вам среди всех ужасов войны! Счастливы были те благословенные времена, когда не было еще этих дьявольских огнестрельных орудий; я твердо верю, что тот, кто их выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, ибо благодаря ему рука подлого труса может лишить жизни доблестного кабальеро. Смелость и отвага воспламеняют и вдохновляют храброе сердце бойца, — и вдруг, неведомо как и неведомо откуда, шальная пуля пресекает и мысли, и жизнь того, кто достоин был бы наслаждаться ею долгие годы. А случайный убийца доблестного воина оказывается нередко жалким трусом, который сам боится выстрелов своей проклятой машины. Поэтому я иногда почти раскаиваюсь в душе, что избрал профессию странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем; хотя никакая опасность меня не устрашает, все же меня несколько смущает мысль, что порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле мощью моего меча. Но да исполнится воля неба, а я, если суждено мне привести в исполнение свои замыслы, приобрету величайшую славу, ибо преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
Такова была длинная речь Дон Кихота. Он так увлекся, что забыл о еде и не проглотил ни куска, к великому огорчению Санчо, который не раз перебивал его, убеждая сначала подкрепиться, а потом уже приниматься за рассуждения. А все другие сотрапезники, слушая его рассуждения, невольно жалели, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, как только дело коснется рыцарства. Священник сказал Дон Кихоту, что он вполне согласен с его доводами, хотя и принадлежит сам к сословию ученых.
Речь Дон Кихота заслужила полное одобрение не только священника, но и остальных присутствующих: все были очень веселы и довольны. Тем временем две трети ночи уже прошло, и было решено оставшиеся часы посвятить отдыху. Один Дон Кихот заявил, что он не ляжет спать и будет до утра охранять замок.
— Кто знает, что может случиться? — прибавил рыцарь. — Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
Присутствующие поблагодарили его и стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату; кавалеры расположились, кто как мог; Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжи своего осла, а Дон Кихот выехал на своем Росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему называл замком.
Глава 26, в которой рассказывается о необычайном приключении на постоялом дворе
Вся гостиница погрузилась в глубокий сон, не спали только дочка хозяйки и служанка Мариторнес. Видя, что Дон Кихот на коне и в полном вооружении разъезжает вокруг гостиницы, они решили подшутить над ним.
Во всем доме только одно чердачное окошко выходило на дорогу. Проказницы стали у этого окошка и увидели Дон Кихота; сидя на коне и опершись на копье, он время от времени испускал столь глубокие и грустные вздохи, что казалось — у него разрывалось сердце. Вздыхая, он говорил нежным голосом:
— О госпожа моя Дульсинея Тобосская — совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете! Что делает сейчас твоя милость? Не вспоминаешь ли ты о плененном тобой рыцаре, который добровольно подвергает себя таким опасностям только для того, чтобы послужить тебе? О, принеси мне весть о ней, ясная, светлая луна! Быть может, в эту минуту ты смотришь ей в лицо, ты видишь, как она прохаживается по галерее своего пышного дворца или стоит на балконе, опершись на перила, и, глядя на тебя, предается мечтам обо мне и думает, как ей поступить, чтобы без ущерба для своего величия и чести смягчить муки, которые ради нее претерпевает мое удрученное сердце. Быть может, она размышляет, какими радостями подарить меня за страдания, какой утехой — за безутешность, какой жизнью — за смерть, какой наградой — за службу! А ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор, чтобы встретить мою госпожу, молю тебя: передай ей привет от меня! Но, глядя на нее, остерегись лобзать ее лицо, не то я стану ревновать ее к тебе еще сильнее, чем ты сам, великолепный Феб, ревновал быстроногую нимфу[52], за которой гонялся по фессалийским равнинам или по берегам Пенея, точно не помню.