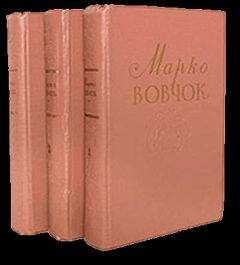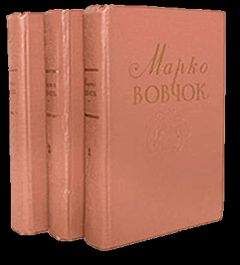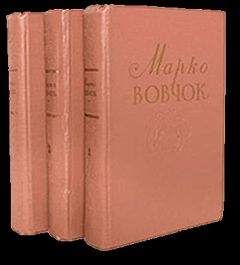— А вот шел мимо…
— Куда ж это ты ходишь мимо по ночам? — спросил отец Мордарий еще презрительнее.
— Да вот услыхал, лошадь фыркает, и думаю: надо посмотреть, какая это лошадь…
Очевидно, плавные и последовательные ответы были у него подготовлены, — не только плавные и последовательные, но даже с малой дозой язвительности, которую он позволял себе всегда и везде там, где считал то для себя безвредным.
Отец Мордарий это понял и тотчас же прервал его вопросом:
— Это ты, верно, мою лошадь слышал. Сорвалась, окаянная, и пропала как бесовское наваждение! Что ж, отец дьякон, поможешь, что ль, ее изловить?
— Сейчас, отец Мордарий, сейчас… сию минуту… Тимош, где мои сапоги?
Он кидался из стороны в сторону, отыскивая принадлежности своего одеяния.
Отец Мордарий уже встал с лавки и нетерпеливо следил за его беспорядочными движениями.
— Полно метаться-то! Что ты там шаришь — там только пустое корыто! Вон сапоги, перед тобою! — восклицал он с возрастающею досадою.
— Я пойду поищу лошадь, — сказал я, обращаясь к отцу Мордарию.
Он обернул ко мне свою широкую буйволообразную физиономию, сурово окинул меня взглядом и, внезапно смягчившись, ответил:
— Ладно, ладно. Не тревожь себя, отец дьякон: пусть сын переменит твою старость. Прощай, милости просим к нам! Ну, молодец, шевелись!
С этими последними словами, обращенными ко мне, отец Мордарий, насунув на косматую голову измятую в порывах гнева шляпу, шагнул за двери, не обратив к пономарю прощального слова, ниже хотя бы небрежного кивка.
Я резво за ним последовал.
Ночь была темная, тихая; мелкий дождичек бесшумно, но часто, как из сита, моросил; издалека, из глубины леса долетало жалобное завыванье уже начинавших голодать волков.
Изрыгнув несколько проклятий на темноту ночную, на непогоду осеннюю, на холод, до костей пронимающий, отец Мордарий тихонько засвистал. В ответ на этот свист тотчас же раздалось легкое, ласковое ржанье.
— Вот она где! — проговорил отец Мордарий, направляясь в ту сторону, откуда раздалось вышепомяиутое ржанье.
Продрогшая лошадь его скоро была нами поймана у иерейского забора, и отец Мордарий, еще ниже насунув шапку и откинув рукава рясы, вспрыгнул на нее с удовлетворительною ловкостью.
— Выломи-ка чем погонять, — сказал он мне, умащиваясь на колеблющейся подушке, безыскусственно прикрепленной веревками к хребту лошади, из которой, при каждом его нетерпеливом движении, брызгали струйки накопившейся дождевой влаги.
Поспешно сломив и подавая ему березовую ветвь, я вдруг, сам не постигая как, сказал:
— Зачем он его прячет?
— Что? — спросил изумленный моим обращением отец Мордарий.
— Он его прячет от вас? Зачем? Вы знаете, зачем?
Я говорил как во сне, не рассуждая о уместности, ниже последствиях моих речей.
Отец Мордарий положил мне на плечо полупудовую десницу свою и, склоняясь ко мне ласково, сказал:
— А ты что знаешь? Говори, не бойся! Ты видел его?
— Видел.
— Когда?
— Вчера ввечеру.
— Что ж он делал? Где ты его видел?
— Он под окошком сидел, — под тем, что в сад, — и орехи грыз, а потом муху ловил…
— А потом?
— Потом пришел отец Еремей и стал что-то ему говорить, и он стал плакать.
— А ты не слыхал, что отец Еремей ему говорил?
— Нет.
— А ты видел, как он кликушей кричит?
— Видел.
— И он вправду кричит?
— Вправду.
— My, расскажи мне все, как это бывает.
Я со всею подробноетию передал ему припадок Вертоградова, которым ознаменовалось прибытие его в Терны, а также и последующие два, показавшиеся мне менее продолжительными и далеко не столь сильными.
Отец Мордарий погладил меня по голове, давая мне этим почувствовать свое доброе ко мне расположение.
— Ты вот что сделай, — сказал он мне: — ты как-нибудь подслушай, что они будут говорить… И все это запомни… все, до единого словечка… Слышишь?
— Слышу, — отвечал я.
— Вот тебе на пряники. Смотри, все запомни… Я после еще на пряники дам…
Он махнул ветвию, лошадь пустилась вскачь, и он скрылся во мраке.
Конский топот еще не успел смолкнуть, как уже отец мой показался па пороге нашего жилища и тоскливо меня окликнул.
Я поспешил на его зов, сказал, что лошадь отца Мордария была найдена у иерейского забора, и, под предлогом будто бы одолевающей меня дремоты, тотчас же отправился на ложе свое.
Отец долго еще шептался с пономарем, но я, занятый своими соображениями, не прислушивался на этот раз к их шепоту; наконец пономарь ушел, отец уснул, а я, волнуемый ожиданием завтрашнего дня и имеющих в этот день быть моих подвигов, долго еще не обретал успокоения; только на рассвете благодетельный сон сомкнул мои отяжелевшие вежды.
Невзирая на столь позднее и беспокойное бдение, я на следующее утро проснулся ранее обыкновенного и с лихорадочною поспешностию направился тайными обходами через бурьяны к саду иерейскому.
Я решил во что бы то ни стало исполнить поручение отца Мордария, или, говоря точнее и правильнее, я стремился во что бы то ни стало удовлетворить свое собственное страстное желание — дознаться, какие новые ковы строит ненавистный мне человек, и, если возможно, хотя бы и ценою самых несносных страданий, эти ковы разрушить, а его посрамить.
Все мне на этот раз, казалось, благоприятствовало: после ненастной ночи наступило теплое, ясное утро, благорастворенности воздуха необычайной, так что все окна иерейские были отворены. Благоприятствующая мне судьба этим еще не ограничилась, но послала две партии деревенских крестин, которые отвлекли отца Еремея из дому.
Хотя с значительным замиранием сердца, но без малейшего колебания я осторожно пробрался во владения иерейские, прямо под окна, выходящие в сад, где, схоронившись в часто растущих калиновых кустах, приготовился терпеливо выжидать появление интересовавшего меня прежде обольстительного франта, а теперь злополучного страдальца, Михаила Вертотрадова.
Терпению моему в этот день предоставлена была изрядная практика: долго открытое окошечко, куда я устремлял жадно выжидающие взоры, не являло мне ничего, кроме уголка во внутренности покоя, откуда тускло сияла лампада, освещавшая слабым мерцанием лик святого угодника и чудотворца Николая, грозно вызиравший из позолоченной ризы и готовый, казалось, так же пламенно покарать всякого противящегося ему грешника, как покарал он нечестивого Ария на богословском прении.
Как всегда это бывает в подобных случаях, сначала мгновения казались мне веками, каждый шум заставлял меня вздрагивать, но мало-помалу я, так сказать, освоился с тревогами ожидания, и мысли мои, хотя сосредоточиваясь на ожидаемом, уносились, однако, временами и в другие стороны.
Место, где я находился, было для меня исполнено любезных воспоминаний. Коль часто я поджидал тут в былое время незабвенную Настю или же являлся на условленное с нею свидание!
С сердце стесняющею живостию представлялись мне ее улыбки, блистающие звездоподобные очи, пленительный смех, увлекающая, как весенний поток, веселость, неустрашимая нежность… Где сиявший мне путеводным светилом Софроний? Я вспомнил и последнего, отнятого у меня неумолимою смертью друга…
О ты, благосклонный читатель, коему хотя наскоро, хотя почти бессознательно удалось захватить трепещущими устами каплю меду — хотя бы единую каплю, — ты можешь вместе со мною уразуметь всю мучительную истину народной пословицы, гласящей, что "полынь — после меду горче самой себя".
Задыхаясь от этой горечи и поставляя неизощренному уму своему легионы тоскливых «почему», "за что" и «отчего», я погрузился в головоломное это упражнение, от которого отвлек меня раздавшийся поблизости легкий свист.
Я оглянулся и — да представит себе всякий мое изумление! У окна сидел предмет моего выжидания, и свист, заставивший меня очнуться, этот свист вылетал из его уст!
Обернутый в рововое ситцевое одеяло, он бесцельно и тоскливо глядел в пространство. Правда, прежде круглое подбрадие и алые ланиты, напоминавшие своею пухлостью дующих в ликовании херувимов, теперь пожелтели, обвисли, горделивая, победоносная осанка затмилась унынием, но более ужасных разрушений горесть и недуг не произвели. Сидя в этом розовом одеяле и тихонько насвистывая, без малейшего признака мысли на челе, он походил на некоего младенца-исполина, который только что восприял исправительную кару от строгого наставника, находится под неприятным и болезненным впечатлением означенной кары, но смягчись покаравший его и выпусти его гулять, все уныние его мгновенно рассеется, он устремится на новые забавы и огласит воздух выражениями своей утехи и веселости.
Желая привлечь его внимание, я тихонько кашлянул. Он тотчас весь встрепенулся и стал тревожно озираться во все стороны. Я повторил и, видя, что расширившиеся глаза его обратились на мое тайное убежище, пошевелил ветвями калины и как бы невзначай высунул наружу руку.