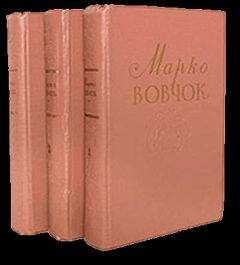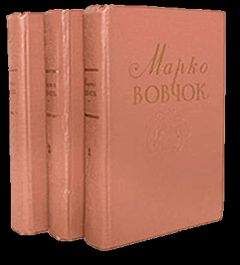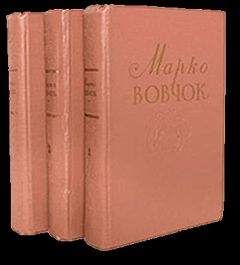При прощанье не только их носовые убрусоподобные платки были мокры, но концы ярких косынок и шалей, равно как и развевающиеся ленты чепцов носили следы их сочувствия к горести ближнего, а на столе, вокруг опорожненного не раз самовара, на опрокинутых чашках оставались обгрызенные кругленькие, словно обточенные шарики сахару — остатки прикуски, которую Македонская, сурово и раздражительно отирая слезы, катившиеся по впавшим ланитам, тщательно собирала и прятала.
Сочувствующему мужскому полу, как более сильному духом, подавали вместе с чаем закуску и водку, и сочувствие его хотя было в той же мере сильно, но сдержаннее, выражаясь глубокими вздохами, приведением текстов священного писания, примеров испытаний святых мучеников и посулами наград в загробной жизни за претерпенные на земле страдания.
Но хотя, повидимому, здесь царила взаимная приязнь самого лучшего свойства, под внешнею расположенностью свирепствовали обоюдное недовольство и раздражение, замышлялись ковы, строились засады, что не замедлило и обнаружиться.
Не успел полный лик луны и на четверть убавиться, как уже одноколки, брички и прочие подобные способы передвижения перестали появляться во дворе отца Еремея.
Последнее посещение, несколько разъяснившее мне тайную суть дела, ознаменовалось взрывом долго сдерживаемого негодования.
В недальнем расстоянии от Тернов священнодействовал иерей Главоотсеченский Мордарий, известный строптивостию нрава, проницательностию ума и необузданностию во всех случаях, где касалось достижения ласкаемого им желания.
Я, наблюдающий с свойственною мне любознательностию и вниманием все вокруг меня совершающееся, уже заметил, что помянутый иерей Мордарий начал являться к отцу Еремею не в положенные для посещений часы, как, например, час утреннего рассвета, обеда или же ночного успокоения, и что всякий раз, просидев замечательно долгое время, он уезжает в возбужденном состоянии. Последнее обстоятельство ясно доказывалось громогласными позорными прозвищами, которые он расточал не только своему вознице, но и супруге своей, запуганной (и потому, быть может, всегда невпопад все говорящей и делающей жене), отличавшейся (тоже, быть может, вследствие беспрестанных страхов и тревожных вскакиваний на грозный зов иерея) угловатостию движений и несообразительностию речей.
Однажды, когда уже все в природе почило и глубокая темнота ненастного осеннего вечера обняла землю, я вдруг услыхал отдаленный конский топот. Топот этот все приближался, приближался, затем раздался у иерейского двора. Я слышал, как расплескал конь большую лужу у иерейских ворот, как фыркнул, став у крылечка, и как начался торопливый, нетерпеливый стук в двери.
— Кто там? — послышался голос Лизаветы.
Ответа я не мог уловить слухом, но до меня явственно долетели восклицания Лизаветы:
— Батюшка! Я боюсь отворять: тут кто-то шепчет под дверью!
"Это сам прибыл!" — подумал я и, в одно мгновение беспорядочно накинув на себя одежды, выскользнул из дому.
Но отчего сам является во тьме ночной, как тать? Это привело бы меня, ожидавшего прибытия торжественного, в немалое изумление, если бы я уже не успел отроческим своим опытом дойти до того уразумения, что сами мира сего отступают от положенных правил и порядков, когда это им благоугодно.
Между тем как я, охваченный ночною сыростию, пробирался поближе к иерейскому жилищу, в окне его показался свет.
— Кто там? — мягко раздался изнутри голос отца Еремея.
— Да отворите! — отвечал ему с крыльца раздраженный голос, который я тот же час признал за голос отца Мордария. — Пустите!
Завизжали запоры, двери отворились, и отец Еремей со свечою в деснице встретил позднего гостя вопросом:
— Откуда так поздно?
Лицо его, освещенное пылающей свечой, являло приветливость, улыбалось, но он не давал себе труда совершенно надевать маску, а только слегка прикрывался ею, не заботясь о том, как ясно из-под нее выглядывали злость и насмешка.
— Я заблудился, — отвечал отец Мордарий. — А вы, кажется, сбирались в город?
Он, видимо, себя сдерживал, но в глухих звуках его голоса уже явственно слышалось бешенство.
— Пожалуйте, отдохните, — продолжал отец Еремей: — только потише: больной спит!
С этими словами они вошли в покои, и двери за ними затворились.
Разочарованный в своих ожиданиях, я возвратился и, снова успокоясь на ложе своем, вопрошал себя о причине частых и несвоевременных посещений отца Мордария; вдруг застучали в наше окошечко с такою силою, что все наше жилище как бы всколебалось. Отец, внезапно пробужденный от сна, вскочил в ужасе и дрожащим голосом прошептал:
— Кто там?
— Отвори, это я! Да отворяй же!
Я поспешно исполнил за него столь настоятельно требуемое, и отец Мордарий, подобный урагану степей, ринулся в нашу убогую светлицу, ниспровергнул на пути своем скамью и лукошко и бросился на лавку, тяжело дыша и буйно откидывая назад космы гривоподобных волос и бороды.
При слабом свете лампады я мог заметить, как ужасно он раздымается гневом и пышет грозою.
Между тем родитель мой, изумленный, встревоженный и смущенный, стоя пред ним и прикрывая рясою наготу свою, видимо не знал, каким приветствием встречать неожиданного полуночного гостя.
— Как бог милует, отец Мордарий? — наконец проговорил он. — Супруга ваша как…
Он не докончил и в страхе отпрянул.
Звук его робкого голоса как бы сдвинул последний оплот, задерживавший бурный поток Мордариева негодования, — он разразился столь же обильными, как и бешеными проклятиями и безумными угрозами.
— Отец Мордарий! отец Мордарий! — лепетал мой родитель, трепещущий подобно осиновому листу в непогоду. — Отец Мордарий!
— А, он его прячет! — восклицал отец Мордарий. — Хорошо! Прячь, прячь! (Я опускаю выражения, могущие оскорбить деликатный слух читателя.) Я на все пойду! Мне теперь все нипочем! На каторгу угожу, в гроб лягу, а уж таки доеду! Пусть расстригают — экая важность! Пусть хоть распинают — мне это тьфу! Плюнуть да растереть!
И он неистово плевал и растирал плевки огромным своим сапогом так рьяно, что уносил каблуком частицы нашего ветхого пола.
— Блажени миротворцы, яко тии…
— Что? Пареная ты репа! Что? Миротворцы! Ха-ха-ха! (Я снова опускаю выражения, могущие оскорбить деликатный слух благосклонного читателя.)
— А он миротворец, а? Он миротворец, говори мне! Ну, говори! Он много кого умиротворил, говори!
Но родитель мой говорить не мог, а только трепетал.
— Зачем он теперь его прячет от всех? Ну, зачем? «Больной», поет, «больной»! Знаем мы, какой больной! Я христианин, я служитель храма господня, я хочу навещать страждущих, — на это закон ведь есть! А он мне: "Вот бедный младенец!" И велит подать младенца! На что мне младенец? Мне этот младенец все одно как летошний снег! Я ведь жену по его милости избил! Посылаю ее, наказываю: "Умри, а повидай зятя!" И ей не показал, — и я ее измолотил! А чем она виновата? Да погоди, дружок, погоди: будет и на нашей улице праздник! Ничего не пожалею: ни имущества, ни жизни своей! Расстригой буду, а уж на своем поставлю! "Нате вам младенца! Поглядите на младенца!" Ха, ха, ха! Нет, мне надо не младенца, — мне надо теперь…
Он выразительно стиснул свои громадные кулаки, снова захохотал зловещим смехом и пояснил:
— Повыжать из тебя соку!
В это время дверь, в волнении нашем оставленная непритворенною, тихонько, воровски скрипнула, и на пороге показалась лисоподобная мордочка пономаря, вытянутая вперед, как бы обнюхивающая близкую добычу.
Отец Мордарий, уже изливший достаточную долю своего негодования и потому значительно остывший, а следственно, и пользующийся хотя частию своей обычной прозорливости и сметливости, хотя и встретил появление пономаря насмешкою и презрением, однакоже ни единым уже прямым словом не выдал себя.
— Что, Лиса Патрикеевна, — раздражительно обратился он к вошедшему, — зачем пожаловала? Нюхай, нюхай, голубушка! На здоровье тебе, касатка!
— Хе, хе, хе! — хихикал пономарь, усаживаясь на лавке, как приглашенный. — Хе, хе, хе! А я слышу, разговаривают у отца дьякона, и думаю: дай-ка и я зайду.
— Откуда ж это слышал, что тут разговаривают? — презрительно спросил отец Мордарий.
— А вот шел мимо…
— Куда ж это ты ходишь мимо по ночам? — спросил отец Мордарий еще презрительнее.
— Да вот услыхал, лошадь фыркает, и думаю: надо посмотреть, какая это лошадь…
Очевидно, плавные и последовательные ответы были у него подготовлены, — не только плавные и последовательные, но даже с малой дозой язвительности, которую он позволял себе всегда и везде там, где считал то для себя безвредным.
Отец Мордарий это понял и тотчас же прервал его вопросом: