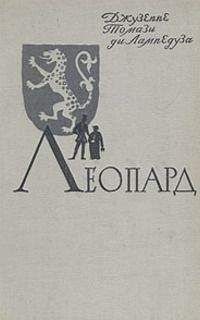Большие синьоры были сдержанны и непонятны, крестьяне откровенны, и все в них было ясно; но дьявол в равной степени обводил вокруг пальца и тех и других.
На вилле Салина он застал князя в отличном расположении духа. Дон Фабрицио спросил у него, хорошо ли он провел эти четыре дня и не позабыл ли передать от него привет своей матери. Он действительно был с ней знаком: шесть лет тому назад она была гостьей на вилле, и вдовье ее спокойствие пришлось по душе хозяевам дома.
О привете иезуит позабыл — поэтому промолчал; он только сказал, что мать и сестра просили его выразить их почтение его превосходительству, что было с его стороны лишь выдумкой — значит, грехом менее тяжким, чем ложь.
— Ваше превосходительство, — добавил он, — хочу просить вас, если можно, завтра распорядиться, чтоб мне дали коляску; я должен отправиться в архиепископство испросить разрешение на брак: моя племянница выходит замуж за двоюродного брата.
— Разумеется, дон Пирроне, разумеется, если только пожелаете, но послезавтра я должен ехать в Палермо; вы могли бы отправиться со мной; неужто вам так к спеху?
По дороге на бал. — Бал: появление Паллавичино и Седара. — Недовольство дона Фабрицио. — Зал для танцев. — В библиотеке. — Дон Фабрицио танцует с Анджеликой. — Ужин: беседа с Паллавичино, — Бал затихает. — Возвращение домой.
Ноябрь 1862
Княгиня Мария-Стелла поднялась в коляску, уселась на голубом атласе подушек и, насколько возможно, подобрала и пригладила шуршащие складки платья. Вслед за ней в коляску взошли Кончетта с Катериной; они сели напротив, от их одинаковых розовых платьев повеяло тонким ароматом фиалок. Затем чья-то тяжелая огромная нога уперлась о подножку, и коляска на высоких рессорах покачнулась: то усаживался дон Фабрицио. Теперь экипаж был полнехонек, как яйцо; волны шелка, обручи трех кринолинов то и дело сталкивались, вздымались чуть ли не до самых голов; внизу сплошная путаница обуви: шелковые туфельки девушек, темно-красные с медным отливом туфельки княгини, огромные черные ботинки князя: каждому мешали чужие ноги, и никто не знал, где его собственные.
Убрали ступеньки подножки, лакей выслушал распоряжение: «В замок Понтелеоне». Он поднялся на запятки; конюх, державший повода, отошел в сторону; кучер неприметно щелкнул языком, коляска тронулась.
Отправлялись на бал.
В то время Палермо переживал одно из своих очередных светских увлечений — неистовое увлечение балами. После прихода пьемонтцев, после событии в Аспромонте, когда исчезли призраки экспроприации и насилия, двести человек — всегда одни и те же, из которых и состоял «свет», — неустанно встречались, чтоб поздравить друг друга с тем, что они еще существуют.
Всевозможные развлечения, мало чем отличающиеся друг от друга, повторялись столь часто, что Салина решили на три недели переехать в свой городской дворец, чтоб избежать утомительных ежевечерних поездок в Сан-Лоренцо.
В длинных, черных, похожих на гроб ящиках прибывали из Неаполя платья для дам; шляпницы, парикмахеры, сапожники метались в истерике; приведенные в отчаяние слуги без конца бегали к портнихам со взволнованными письмами.
Бал у Понтелеоне являлся самым значительным событием в этом коротком сезоне: блеск имени и дворца хозяев, большое число приглашенных придавали ему важность в глазах всех. Но еще важней он был для Салина, которые на этом балу собирались представить «обществу» Анджелику, прекрасную невесту своего племянника.
Было всего лишь половина одиннадцатого: для князей Салина, привыкших приезжать в самый разгар праздника — слишком ранний час, чтоб появиться на балу. Но на этот раз пришлось нарушить традиции: Салина желали быть на балу в ту минуту, когда прибудут Седара, люди, которые, конечно, будут следовать точно указанному на сверкающем картоне пригласительного билета времени («они еще не знают этикета, бедняжки»). Стоило немалого труда выхлопотать для них один из таких билетов; их никто не знал — и Марии-Стелле за десять дней до бала пришлось нанести визит Маргерите Понтелеоне; разумеется, все обошлось хорошо, но это была одна из тех заноз, которые женитьба Танкреди, вонзила в деликатную лапу леопарда.
Дорога к замку Понтелеоне была короткой; она проходила по путаным, темным улочкам. Ехали шагом: улица Салина, улица Валверде, спуск Бамбинаи с лавчонками восковых фигурок, такой веселый днем и столь мрачный ночью. Лошадиные подковы осторожно скользили между черными домами, которые спали либо же притворялись уснувшими.
Девушки, эти непонятные существа, для которых бал — праздник, а не докучливая светская обязанность, болтали вполголоса; княгиня Мария-Стелла ощупывала сумочку, чтоб убедиться, не позабыта ли «летучая соль»; дон Фабрицио предвкушал действие красоты Анджелики на всех этих людей, ее не знавших, и впечатление, которое произведет на тех же людей знавших его слишком хорошо, богатство Танкреди. Одно лишь омрачало князя: каков будет фрак дона Калоджеро? Спору нет, фрак будет не такой, как тогда в Доннафугате; дон Калоджеро был поручен заботам Танкреди, который повел его к лучшему портному и даже присутствовал на примерках. Вчера он заявил официально, что как будто доволен результатами; однако, добавил по секрету: «Фрак как фрак, но отцу Анджелики не хватает шика». Это не вызывало сомнений, но Танкреди ручался, что дон Калоджеро будет выбрит превосходно и прилично обут. А это уже кое-что значит.
Коляска остановилась там, где спуск Бамбинаи выходит к церкви св. Доменико; послышался серебристый звон колокольчика, за поворотом возник священник, несший чашу со святыми дарами; шедший позади клирик держал над его головой белый, шитый золотом Зонт; другой мальчик нес в левой руке толстую зажженную свечу, а правой с великим удовольствием трезвонил в серебряный колокольчик. Значит, в одном из этих наглухо закрытых домов кто-то бьется в агонии, кто-то ждет последнего причастия.
Дон Фабрицио вышел из коляски, стал на колени посреди мостовой, женщины осенили себя крестом, Звон колокольчика затерялся в переулках, круто спускающихся к церкви св. Джакомо. Коляска с седоками, обремененными спасительным предупреждением, снова направилась к своей теперь уже близкой цели.
Прибыли, сошли у подъезда; коляска затерялась посреди огромного двора, откуда доносился топот лошадей и где мелькали приехавшие ранее экипажи.
Лестница была из скромных материалов, но отличалась благородством линий; по обе стороны каждой ступеньки вывялись резко пахнувшие, совсем простые цветы; посреди площадки, разделявшей две анфилады комнат, неподвижно застыли в своих пудреных париках и малиновых ливреях два лакея — живые красочные пятна на серовато-жемчужном фоне. За двумя высокими зарешеченными окнами бил ключом смех и раздавались приглушенные детские голоса: младшие дети, внуки Понтелеоне, не допущенные на праздник, в отместку передразнивали гостей.
Дамы расправляли складки шелка, князь с тростью под мышкой стоял ступенькой ниже и все же был на целую голову выше женщин.
В дверях первой гостиной их встречали хозяева: дон Дьего, седой, с толстым брюшком, которого только суровый взгляд спасал от плебейского вида; жена его, донна Маргерита, за тройным ожерельем изумрудов и сверканьем диадемы показывала кислое, как у старого священника, лицо.
— Вы прибыли рано! Тем лучше! Но успокою вас, ваши приглашенные еще не приехали. — Новая соломинка причинила легкую боль чувствительным коготкам леопарда. — Танкреди уже здесь.
И в самом деле, в противоположном углу гостиной их племянник, черный и гибкий, как змея, окружил себя тремя-четырьмя молодыми людьми, которых заставлял надрываться от смеха, рассказывая им какие-то свои, вне сомнения, весьма пикантные истории, но глаза его, как всегда неспокойные, не отрываясь глядели на входную дверь. Танцы уже начались, и сюда через анфиладу гостиных доносились звуки оркестра.
— Мы ждем и, полковника Паллавичино, того самого, что так хорошо повел себя под Аспромонте.
Фраза князя Понтелеене казалась простой, но, по сути дела, не была такой. На первый взгляд это заявление было лишено политического смысла; оно ставило своей целью лишь воздать хвалу такту, деликатности, волнению и даже нежности, с какой в ногу Генерала всадили пулю, а также последовавшим за тем поклонам, коленопреклонениям и целованью рук раненого Героя, когда он лежал под каштаном на склоне горы в Калабрии и улыбался скорее от волнения, чем от избытка иронии, на которую имел право (Гарибальди — увы! — лишен был чувства юмора).
Эта фраза на какое-то мгновение нашла в сознании князя чисто техническое толкование: он одобрил действия полковника, который правильно выбрал диспозицию, должным образом расположил свои батальоны и сумел добиться от противника того, чего под Калатафимя но непонятным причинам не удалось добиться Ланди. В глубине души князь считал, что «полковник повел себя хорошо», раз он сумел остановить, победить, ранить и захватить в плен Гарибальди и тем спас достигнутый с таким трудом компромисс между старым и новым.