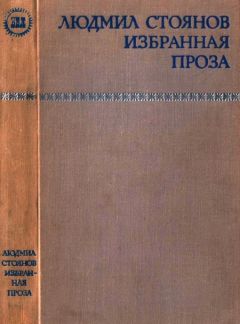— Подъезжаем, говоришь? Мне уже все равно.
— Что?
Делаю вид, что не расслышал его… Что эти слова не были произнесены. Но он повторяет:
— Мне уже все равно, говорю…
— Ничего, ничего, так всегда кажется… Скоро прибудем.
Другие больные посматривают на него, они тоже прошли сквозь этот огонь, да и сейчас он еще жжет их. Они переглядываются, будто хотят сказать: «Бедняга, не выжить ему».
Милан спрашивает меня, словно очнувшись:
— Скоро ли приедем?
— Да ведь говорю тебе, приближаемся.
Приближаемся ли мы на самом деле — еще вопрос, ибо шофер впервые едет по этой дороге.
— Все в глазах двоится, — шепчет Милан. — Я слышал, это дурной признак.
— Не бойся, пройдет.
Грузовик спускается все ниже, ниже. Этот бесконечный спуск для нас страшен и мучителен. Все время кажется, что мы вот-вот вывалимся из кузова, словно камни или мешки. Мы будто падаем куда-то, откуда нет возврата. Дорога становится все более безлюдной, деревья попадаются все реже, а солнце печет все сильней. Другим ехать дальше, чем нам, некоторым до самого Кюстендила. Блаженны те, кто возвращается домой: они увидят родное небо, своих близких и друзей. Быть может, обрели покой и те, что лежат в земле. Но нам, находящимся на грани жизни и смерти, не живым и не мертвым, нам-то каково?
Машина останавливается. Внизу, в долине, расположился госпиталь; его палатки белеют, словно саваны мертвецов. Дорога проложена выше, в горах. До госпиталя нам предстоит добираться пешком.
— Слушайте, ребята, — говорит шофер, тормозя грузовик, — вот он, лазарет. Туда на машине не проехать.
— Ничего, ничего, здесь под гору, — отвечаю я и помогаю Милану сойти.
Грузовик, громыхая, удаляется. Мгновение мы стоим под высоким синим небом и, разомлевшие на солнце, опускаемся на землю, которая манит нас своим теплом и спокойствием. Милан растягивается на спине, устремив неподвижный взгляд в дымчатую высь.
1
Царварица — усыпальница сотен невинных душ, безымянных жертв войны и человеческого безумия.
Холерные больные размещены в палатках — некоторые на дощатых нарах, остальные на соломенных тюфяках, положенных прямо на землю. Здесь порядку больше.
Невдалеке река; по ее берегам — сливовые и яблоневые сады. По утрам долина тонет в легкой синеве тумана, в то время как окрестные холмы, поросшие низкими кустами орешника и кизила, щедро залиты светом.
Тут-то и встретились все мы — больные и персонал лазарета в Царевом селе. Доктора и санитары невозмутимы, как будто ничего и не произошло. Впрочем, они уже смешались с персоналом здешнего госпиталя и почти неотличимы в общей массе. Нас обслуживают другие врачи; они внимательнее, не стараются держаться в пяти шагах от больного, беседуют с нами, подбадривают отчаявшихся. Больных много; длинный ряд палаток вырос в садах вдоль реки; обе мельницы также переполнены.
Мрачное зрелище представляет собой эта тихая и спокойная долина. Люди лежат и мучительно стонут на своих постелях, которые завтра, быть может, освободятся для новых пациентов. Те, кто чувствует себя получше, греются на солнце, ищут паразитов в белье или стирают в речке, голые, высохшие, как скелеты; другие, окончательно выздоровевшие, срывают сливы, тянутся к веткам, как голодные козы.
В палатке нас трое: полковник санитарной службы, подпоручик Милан Костов и я. Мы лежим пластом, почти не разговариваем, занятые одной мыслью: неужто здесь конечная станция? Край палатки откинут и нам днем и ночью видны ряды деревянных крестов на противоположном холме; днем они напоминают распятия; вечером — процессию рыдающих матерей.
Давно уже собираюсь осмотреть их вблизи. Они не далее, чем в ста шагах от нас, но слабость все же держит меня в постели. Волнения, пережитые в Царевом селе после бегства персонала, измучили меня. Подпоручик в еще более тяжелом состоянии; лишь полковник как-то сразу окреп, свободно расхаживает, даже играет в таблу[23] с бригадным генералом, в соседней палатке. Они вне опасности, словно своими чинами внушают болезни уважение. Она мимоходом задела их своим саваном и только одурманила ненадолго, чтобы дать им возможность отдохнуть вдали от назойливого грохота фронта.
— Помнишь, как он просил соленого огурчика? — спрашиваю я подпоручика.
— Да, — отвечает он, — на то он и полковник санитарной службы.
— И чего они не уезжают? Да каких пор будут стучать в свою таблу?
— Известно до каких: ожидают перемирия.
Он иронически улыбается, но улыбка выходит беспомощной и жалкой. Он не может простить им, что они уже здоровы, в то время как его донимают тупые, постоянные боли в желудке и голове. Он исхудал до неузнаваемости, руки у него трясутся.
— Милан, как только встретимся в Софии, закатим банкет в «Юнион-клубе».
Он отвечает охрипшим голосом:
— По правде говоря, я даже о женщине так не мечтал, как сейчас о вкусной еде.
При этих словах лицо его снова кривится в жалкой улыбке.
Днем в палатке становится душно до одури. Я выхожу посидеть под ивами. Милан остается лежать, прикованный к постели.
Меня одолевает любопытство: что происходит в других палатках? Они переполнены. Больные солдаты лежат вплотную друг к другу, как на привале. Лежат на соломе, разостланной на голой земле, и тихо переговариваются. Раз они до сих пор еще не сыграли в ящик и добрались до этих мест, — значит, опасность миновала. Смертных исходов здесь поменьше. Правда, и тут ежедневно умирают один-двое, но это не идет ни в какое сравнение с гекатомбами Царева села. Здесь даже кресты на могилах ставятся…
Кто-то окликнул меня.
Полуугасший взгляд. Худое смуглое лицо. Не могу вспомнить, где я его видел. Оно как будто и знакомо мне, но в то же время какое-то чужое и странное, словно призрачное.
— Что, студентик, не узнаешь меня? Оно верно, мы уже на людей не похожи.
— Илия!
Да, это Илия Топалов. Выдержал! Молодчина, дай бог ему здоровья.
— Давно ты в лазарете? — спрашиваю я.
— Пять дней, но что пришлось пережить, покуда попал сюда, и не расскажешь. А ты? Давно здесь?
— Три дня. Меня поместили вон там, в офицерских палатках.
— Ну да? Уж не произвели ли тебя…
— Попал случайно, и с тех пор так и повелось.
— Что нового в полку? Говорят, там такие дела сотворились… и не выдумаешь.
— Не знаю, Илия. Я заболел на другой день после тебя.
Эх, Илия, он напомнил мне былое, страшное и отвратительное. Я почти забыл обо всех этих ужасах, но вот ветер развеял золу, и под ней блеснули горячие, раскаленные угли. Как там мои товарищи, бай Марин и бай Стоян? Все так же добры и терпеливы? Живы ли, здоровы ли?
— Лазар Ливадийский тоже здесь. Лежит на мельнице, коли хочешь повидать его…
Илия улыбается своей доброй, вялой улыбкой и прибавляет:
— Гляди-ко, студентик, выходит, и ты пострадал… Ну, ничего: раз уж сюда дотянул…
Иду дальше, захожу по очереди на обе мельницы. Несмотря на то что под навесами и в помещениях лежат больные, мельницы продолжают работать, жернова вертятся, оглушительно стучат водяные колеса.
Лазара Ливадийского я не нашел.
Отсюда тропинка вьется по гребню холма вдоль сливовых рощ и кустарников. Здесь начинается кладбище холерных — длинный ряд крестов. Одни повыше, другие пониже, они стоят в задумчивом молчании, словно стараются проникнуть в какую-то тайну.
Кресты на солдатских могилах без надписей: так закапывают пристреленных лошадей, заболевших сапом. Унтер-офицеры и особенно офицеры удостоены крестов получше, с надписями. На одном из них имя подполковника санитарной службы, еврея, о котором рассказывали, что он проявил удивительное упорство в борьбе с холерой.
Медленно, как тень, брожу я меж крестов, насколько позволяют силы; передо мной раскинулись больничные палатки, я стараюсь различить среди них нашу, чтобы помахать рукой подпоручику.
Внезапно взгляд мой падает на одну из надписей; всматриваюсь внимательней и чувствую, что колени мои слабеют и весь я начинаю дрожать, как в лихорадке.
Опускаюсь на камень и снова смотрю на надпись: «Ефрейтор Стаматко Колев».
В палатке душно.
— Знаешь, я нашел могилу своего фронтового товарища. Нас в один день ранило, а потом мы оба, больные, валялись в кустарнике на Голаке…
Бросаюсь на постель:
— Стаматко! Стаматко! Вот где довелось увидеть твой прах!
— Спокойней, мы с тобой тоже еще от этого не застрахованы, — отзывается подпоручик.
Затем, повернувшись на другой бок, со вздохом говорит: