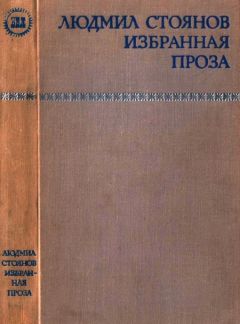Что это? Человек. Он лежит неподвижно, свернувшись клубком. Я спотыкаюсь об него и вздрагиваю. И он, вроде нас, лежит под небесами, брошенный на милость матушки-земли и свежего воздуха. Он не одинок. Рядом с ним еще один, второй, третий… Они лежат в самых различных позах. Спят ли они? Холерные вообще не спят. Они или бредят, или храпят в полузабытьи. А эти спокойны, спят, как младенцы…
Впереди движется белая тень. Должно быть, кто-нибудь из старожилов, надо следовать за ним. Идет он еле-еле, пошатываясь, и я легко его догоняю.
— Послушай, ты давно здесь?
Он отпрянул, как ошпаренный.
— Кто, я? Да нет, всего три дня. Здесь никто больше двух-трех дней не задерживается. Если не помрет за что время, отправляют в тыл, в другие больницы.
— А что это за люди валяются по двору?
— Что за люди? Больные — или покойники. По утрам их подбирают и закапывают…
Человек отходит под тень вязов и приседает на корточки.
Я возвращаюсь. Двор, залитый белесым лунным светом, полон людей. Группами и в одиночку они распростерлись, приникли в молчании к земле, словно прислушиваются к чему-то, что надвигается на них. Стоны, храп, бред — знакомые звуки, галлюцинации больного мозга, когда кажется, что все прекрасное, вся жизнь осталась где-то там, позади, по ту сторону какого-то канала с черной, липкой водой, откуда уже нет возврата. Мне приходится перешагивать через эти мертвые тела, чтобы добраться до своего товарища.
Заглядываю в палатки. Оттуда несет нестерпимым зловонием, и я с отвращением отшатываюсь.
Столько больных людей — и никакого ухода за ними. Я так и не видел, чтобы хоть один санитар подошел к больным, сказал им два-три слова. А ведь все это солдаты, сыны народа, поднявшиеся на защиту царя и отечества… Отечества, которого они не знают, и царя, который продает их иностранцам вместе с этим отечеством…
— Милан! Милан Костов! — с надрывом кричу я своим сиплым, немощным голосом.
Где я оставил его? Обширный лагерь полон спящих людей, и я не могу отыскать место, где мы лежали.
Останавливаюсь и оглядываюсь вокруг. Стараюсь понять. Перешагиваю еще через несколько трупов и кричу:
— Милан Костов! Где ты?
Одна из теней приподнимается.
— Здесь! Здесь! Что случилось?
— Да вот незадача, — отвечаю, — заблудился в лагере…
— Куда ты ходил?
— Понятно куда… Только пройти здесь не просто — больные валяются где попало…
— Эх, несчастная страна!..
Я ложусь рядом с ним.
— Который час? — спрашивает он.
Если судить по звездам, то должно быть далеко за полночь. В окопах мы изучили их путь и знаем, когда какая из них заходит. Летняя ночь коротка. Горизонт на востоке слегка розовеет. В окрестных селах и деревушках перекликаются первые петухи. Близок рассвет.
В этот ранний утренний час у лагеря странный, необыкновенный вид. Больные в большинстве уже успокоились после страшных ночных кошмаров и закрыли глаза в предутренней дреме. Кое-кто, может быть, заснул навеки. Лица — синие, землистые, рты раскрыты и обнажают пожелтевшие зубы, разъеденные соленой солдатской похлебкой — неизменной постной бурдой, от которой только промываются кишки и так подводит животы, что желудок прилипает к спине. Раннее солнце действует усыпляюще. Бывают ведь и холодные ночи, а люди спят, ничем не укрывшись, согласно законам «патриотизма», который укрывает одних за счет других.
Счастливые! Они спят, как телята. А там, в убогих горных селениях, которые греются под южным солнцем, точно ленивые стада волов, бегают их детишки, жены спешат полить огороды, а старики гонят осликов к старой мельнице у реки. Подозревают ли эти невинные, как полевая трава, души, что где-то в неведомом краю, покинутые, умирают самые близкие им люди, их опора, сила и гордость?
Из палатки фельдшера вылезает человек в белом халате. Немного поодаль стоит другая палатка, повыше первой, со скамейкой у входа, — по-видимому, докторская. Слева — кухня, повар чистит овощи к обеду. Он готовит для доктора и фельдшера, ибо больные не получают никакой пищи, кроме чая. Но дадут ли хоть чаю — вот в чем вопрос. Во рту пересохло. Раздаются отдельные выкрики:
— Послушай, господин унтер, не найдется ли кружки воды, будь другом!
— Дрянь, а не люди, — слышится чей-то слабый, робкий голос, — подохнешь — никто и не взглянет.
Санитары вяло, невозмутимо двигаются между кухней и палаткой доктора. Хоть бы один из них сбился с пути и по ошибке принес сюда кружку чаю!
Вот и доктор; рыхлый, тучный, с маленькими глазками, в пенсне и белом халате, он возбужденно размахивает руками и клянет все на свете.
3
— Киро!
— Я, господин доктор!
— Кто бросил здесь господина подпоручика без всякого присмотра?
— Господина подпоручика?
— Да, да, господина подпоручика! Ослеп, что ли? Вздуть бы вас как следует, чтобы приучились к порядку!
Киро смотрит на него виновато и растерянно, пораженный тем, что заставил офицера спать на земле, в то время как для них есть специальная палатка… Как это он проглядел? Его краснощекое, круглое лицо конвульсивно подергивается, добродушная улыбка прячется, вид у него растерянный и несчастный.
До подпоручика Костова с трудом доходит, что весь этот скандал поднят из-за него. Он стоит, олицетворяя собой открытое обвинение, и во взгляде его — молчаливый, но грозный укор.
Скорей всего доктор и не подошел бы ж нам, если бы не услышал моего возгласа: «Господин подпоручик!» Это привлекло его внимание, возбудило любопытство.
Доктор сделал еще несколько шагов в нашу сторону, вытер ладони о халат и произнес:
— Ужасно! — И, не дождавшись ответа, продолжил: — Пропасть больных, а персонала — никакого. Не знаешь просто, с кого начать. Извините, что фельдшер заставил вас переночевать на земле. Но просто голова идет кругом…
Милан Костов некоторое время смотрит на него и затем говорит:
— Да обо мне не беспокойтесь. Смотрите лучше за солдатами.
— И я так думаю. Вот именно, за солдатами. Ведь это народ. А что мы с ним делаем? Предоставляем ему подыхать, как чумному стаду. Ни условий, ни медикаментов, ни персонала.
— Вы так казнитесь, что вроде бы и добавить нечего, — произносит с усилием подпоручик. — Но мне бы хотелось обвинить вас, докторов.
— Нас? Но, простите, при чем здесь мы? Мы и так разрываемся на части. Что можно сделать голыми руками?
— Ну, ну. Побольше заботы, побольше внимания. Вот я здесь уже десять часов, а еще не видел, чтобы больным дали хотя бы чаю. Если все дело сводится к тому, чтобы мы спали на голой земле и дышали чистым воздухом, тогда нет никакой надобности в вас. Умереть мы и без вас сможем.
— Извините, господин подпоручик, извините, мы ведь всего лишь эвакопункт. Наша задача…
Доктор деланно усмехнулся. Ему хочется свести слова подпоручика к обычной шутке.
— Да, да… Шутки в сторону, но эти наши порядки погубят нас.
Мимо проходит человек с подносом в руках.
— Слушай, — строго обращается К нему доктор, — немедленно две чашки чаю господам. Который час? О-о! Уже восемь. Пора приступать к обходу. Вы зарегистрированы? Нет? Сейчас мы зарегистрируем вас. Где фельдшер? Эти негодяи с ума могут свести человека. До свидания.
Он входит в палатку недовольный, раздраженный. Солнце греет нам спины, мы садимся на траву.
— Хорошую вы ему дали взбучку, — говорю я подпоручику.
Он поднимает на меня свои мягкие, теплые глаза.
— Брось ты эти официальности, — шепчет он устало. — Мы с тобой товарищи по несчастью, у нас одна судьба, незачем нам комедию ломать… К чему тут «вы». А этого, попадись он мне, вздернул бы собственными руками.
Вокруг нас желтеют голые пологие холмы, залитые утренним солнцем.
Чай взбодрил нас. Мир теперь кажется моложе, шире, как-то приветливее. Жажда жизни волной захлестывает нас, хотя жизнь и представляется такой далекой, невероятной.
— Господин доктор, телеги прибыли.
— Ага. Сколько их?
— Двенадцать.
— Хорошо. Если они успеют до вечера сделать два рейса, то с мертвецами покончим. Акты готовы?
— Так точно. Список составлен. Все сведения внесены.
— Смотри, Киро, не напутай там чего-нибудь, надо произвести самую тщательную проверку умерших…
— Слушаюсь, господин доктор! Потребуется еще несколько грузчиков…
— Ничего, пусть возчики помогут.
Этот разговор ведется около кухни, в нескольких шагах от нас. Мы сидим на траве и ждем. Милан поглядывает на меня, глаза его мечут молнии. Ярость, бессильная злоба душат его. Подхожу к доктору и с трудом шепчу: