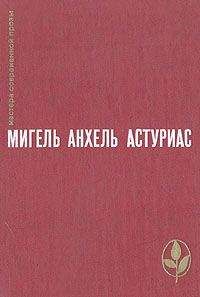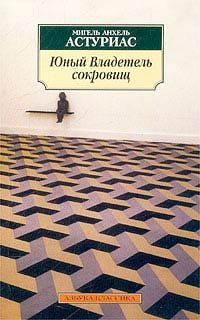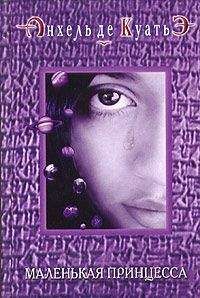— Только… деньгами прикрыли! — прогундосил какой-то гнусавый человек на ухо мулатке с лицом цвета сухих листьев, приплюснутым носом, маленьким ртом и широкими скулами.
— Никогда не видела, — сказала мулатка, — нигде не видела. Хотя гринго один раз дарили деньги. Отцу моему подарили много-много денег, просто так, не по наследству… Много-много дали отцу…
— Но ведь не за красивые же глаза!
— Красивые, у отца красивые глаза! Два года назад похоронили его, да…
— Нет, не путай, я хочу сказать, что не в подарок отец твой деньги получил…
— Ох, много…
Мулатка раскрыла глаза во всю ширь — ох, много, и казалось, что она таращила их, ни на что не глядя; взгляд висел в воздухе.
— Гринго дали ему деньги за то, чтобы он отдал землю, чтобы убрался оттуда…
— Он и ушел в столицу, ушел отсюда. Анастасиа, сестра моя, осталась там, в столице. Я, сестра Анастасии, родилась потом, родилась тут.
— А почему твоя сестра не захотела вернуться?
— Я не знаю. Анастасиа всегда звала меня туда. Тут лучше. Она пишет из столицы. Мать ей не отвечает.
— А отцу твоему сколько денег дали?
— Ох, много…
На косогоре, где зыбучий песок, озаренный огненным блеском заката, отсвечивал металлом, шуршали шаги темных мулов. Гнусавый и мулатка скользили вниз боком, напрягшись всем телом и взявшись за руки, чтобы не упасть.
— Ты небось была бы рада и пятой части такого наследства?
— Ох, многоГнусавый втягивал ноздрями ее запах, запах пота и стиснутого платьем тела, крепкого, как сплав дерева и бронзы. Нюхал и разглядывал ее. Разглядывал и, нарочно теряя равновесие, прижимался к ней.
— Тоба, если бы я имел власть здешнего колдуна Рито Перраха, я бы сделал так, чтобы при чтении завещания вместо имен всех наследников прочитали только одно имя: Тоба!
— Тобиас… У меня имя мужчины. Отец сказал, что я душой мужчина. Душой мужчина, но телом женщина.
— Тоба — наследница одиннадцати миллионов долларов!
— Ох, много!
И она снова уставилась в пустоту, как слепая, широко раскрыв глаза, два белых озерка на желтоватом лице.
Гнусавый уже не ловил ее запах, он упивался трепетным ореолом, флюидами, плясавшими вокруг Тобы, окутанной рубиновой, почти огненной мглой.
— Тоба, зачем нам туда идти?.. Столько народу… Раз уж мы встретились… Раз уж мы вместе…
— Мать не хотела идти… Отец умер, тут похоронили.
— Раз уж мы встретились, раз уж мы вместе, давай посидим, посмотрим, как народ идет. Идут, идут, как муравьи большеголовые. Только головы и различишь да пятки голые. Идут. А зачем? Ведь не им счастье-то улыбнулось. Зачем же тогда? А затем идут, Тоба… — повернувшись лицом к ней и взяв за руки, он пытался усадить ее на землю, плывшую из-под ног, — затем, что они недовольны своей жизнью, а мир без любви — это мир недовольных, мир, где царят деньги, жадность, слава, прихоть и власть. И они идут, Тоба… — Он отпустил ее руки и обнял за талию, чтобы приблизить к себе, вбирая в себя ее запах, как вбирают запах морских глубин, вдыхая всю целиком, стараясь коснуться ресницами ее ресниц, чтобы губы были близко-близко, а дыхание слилось в один страстный вдох. — Они идут и потому, что в новых миллионерах каждый словно видит себя, ставшего богачом, отыгравшегося за все прошлые беды и будущие; потому что наследники такие же люди, как эти, Тоба, такие же, как вот эти, Тоба, но, перестав теперь быть ими, счастливцы будут представлять этих людей на празднике богачей. — А какой в этом толк? Ведь потом, после того как их причислят к лику всемогущих, они все равно останутся вшивыми пеонами, снова окажутся в дерьме, будут валяться по больницам и сгниют в общей могиле! Есть ли во всем этом толк, есть ли смысл…
— Ох, много…
И поцелуй загасил на губах Тобы слово, которое она повторяла, раскрыв глаза широко-широко.
Не понимая того, о чем говорил гнусавый учитель деревенской школы, мулатка ощущала завораживающую силу доброго слова, потому что не иначе как только доброе слово заставило ее остановиться, позволить взять себя за руки, обнять, поцеловать.
Ночь и вечер. Звезды и полыхание вечера. И муравьиное шествие людей, которые ползли к строениям, освещенным сотнями электрических ламп, — озеро света в жаркой мгле, белый корень, вырытый из земли.
— Тоба…
Они остались одни на склоне холма, на мягком песке. Он снова поцеловал ее и, целуя, ловил ее запах, прижимал к себе, к своему сердцу, жаждал, чтобы все, все принадлежало ему в этом гибком существе, — весь сонм гимнов наслаждению и погибели.
— Платье рвется. У меня одно платье. Одно…шептала Тоба. Бескрайняя ночь, а на ее добром лице — радость повиновения, радость, неизвестно отчего, неизвестно отчего… — Говорите, говорите еще, хорошие слова… — пыталась она защититься.
— У тебя твердые коленки, Тоба…
— От моления. Мать молится, и я молюсь на коленях. Отца тут похоронили.
— Но у тебя стройные ноги. Как банановые черенки, еще нежные, молодые…
Тоба почувствовала, как чужая рука скользнула по ее бедру. Она раскинула руки и распятьем глядела в небо.
— Тоба, на что глядишь? Сокровища божьи хочешь увидеть? — бормотал он, лаская ее. — Что видишь там?..
— Ох, много…
И белые глаза ее шевельнулись, пятна горячей извести среди ресниц, жестких, как конский волос.
— Мы сейчас более счастливы, чем наследники всех этих миллионов. Царство небесное мы сегодня теряем, но завтра утром оно будет наше, мы найдем счастье, надежду, стоит только поднять голову и посмотреть на небо. Эти бесценные сокровища не минуют нас…
Приглушенный крик мулатки потерялся в редких кустиках на отлогом склоне. Наплыв странной тоски. Сцепление тел. Сумма двух существ, двух тел, двух бесконечных величин любви.
В просторном салоне для начальства и высших чиновников зажжены все люстры, открыты все окна, заняты все стулья, окружены все помосты игроками в bowling[79], которые прибыли как раз вовремя и сидели, развалясь и улыбаясь; в дверях толпилась прислуга, а в проходах — мелкие служащие. Приступили к оглашению завещания Лестера Стонера, или Лестера Мида, документа, составленного в Нью-Йорке в присутствии адвокатов Альфреда и Роберта Досвелл и запротоколированного лиценциатом Рехинальдо Видалем Мотой. Адвокаты и лиценциат сидели за отдельным столом рядом с судьей, секретарем суда, алькальдом, вице-президентом и членами правления Компании.
Лестер Стонер назвал единственной и универсальной наследницей своего имущества и акций свою супругу Лиленд Фостер де Стонер; в случае ее смерти наследниками становились следующие лица: Лино Лусеро де Леон, Хуан Лусеро де Леон, Росалио Кандидо Лусеро де Леон, — сыновья ныне покойных Аделаидо Лусеро и Росалии де Леон де Лусеро; Себастьян Кохубуль Сан Хуан — сын ныне покойных Себастьяна Кохубуля и Никомедес Сан Хуан де Кохубуль; Макарио Айук Гайтан, Хуан Состенес Айук Гайтан — сыновья ныне покойных Тимотео Айук Гайтана и Хосефы Гайтан де Айук Гайтан.
— Эй, потише там! — прикрикнул Мейкер Томпсон на людей, толпившихся в дверях и под окнами. Он накануне приехал поездом вместе с лиценциатом Видалем Мотой и своим слугой Хуамбо, чтобы сопровождать братьев Досвелл в их поездке по плантациям на Тихоокеанском побережье и по всем тем местам, где вместе с женой Стонер обрел свое счастье и смерть и где он ни с кем не общался, кроме этих темных крестьян, желая лишь одного — построить справедливый мир.
Близнецы Досвелл — удивительное зрелище для присутствующих, при виде их люди толкали друг друга, хихикая, шепчась и гримасничая, — по приезде своем в тропики не могли оторваться от освежающего напитка из плодов гуанабано. (No more whisky — довольно виски, гуа-на-бана!) Они прикладывали к потным лицам — невозможная парильня! — огромные белые платки, которыми затем обмахивались. (Tropic!.. Тропики!..) Они были такими одинаковыми, что выделяли равное число капель пота и притом одновременно. (No more whisky, гуа-на-бана!.. Tropic!.. Tropic!..)
Секретарь огласил завещание, и судья вызвал наследников подписать документ. Они подошли — бледные, молчаливые, суровые. Лино Лусеро протянул дрожащую руку и ткнул пером наугад, не склонясь к бумаге, чтобы не пролить слез, которые он изо всех сил сдерживал.
К завещанию был приложен акт о кончине Лестера и Лиленд, — акт прилип к документу, будто какое-то большое плоское насекомое, загадочное насекомое, на полосатом брюхе которого в строчках, скрепленных печатью, одна краткая фраза сообщила о смерти двух существ; тощее насекомое, почти прозрачное, сквозь которое просвечивал бешеный хаос мятущейся листвы, деревьев, швыряющих в небо змеистые ветви и летящих вместе с корнями за ними вслед; ослепляющие тучи пыли, оглушающий рев урагана, глубокие, но гулкие взрывы океана — все это вырывалось оттуда, из бумажного насекомого, из насекомого — акта о кончине, — и виделся в нем Рито Перрах (сагусан… сагусан… сагусан…), и слышался беззвучный смех мертвой головы Эрменехило Пуака, и…