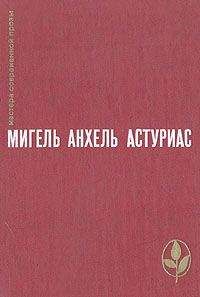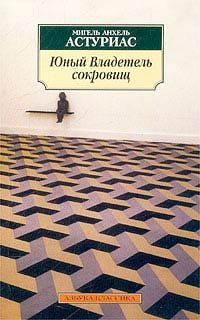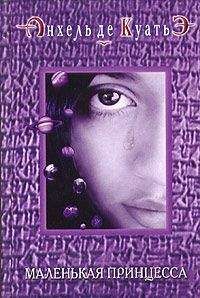Работа на фабрике льда шла полным ходом. Внутри слышался шум бесконечного водопада, и под этим водопадом, под монотонным упорным дождем, внизу, как ткацкие челноки, плясали корытца. Лед не делают, его ткут. Ткут из дождевых нитей. В какое-то мгновенье водяная нить стекленеет; застывают, падая, ее резвые молекулы и превращаются в хрустальную слезу — в еще одну и еще — в ряды столбиков, которые, смерзаясь, становятся глыбой.
— Это ты смеялся? — спросил у Хуамбо молодой ямаец.
— Да. Ну и что?..
— У тебя злое сердце. Старику больней от твоего смеха, чем от укуса пса. Он заплакал, слыша твой смех. Зачем ты смеялся?
— Сам не знаю. Будь проклят сегодня мой рот, если я не попрошу у старика прощения!
— Он там идет, впереди. Это было бы хорошо…
— Друг… — подошел к старику Самбито. — Прости меня, я смеялся, когда тебя лечили! Куда вы все идете?..
Старый ямаец вздохнул, прищурил глаза, омертвелые от усталости, жары и облегчения, которое принес лед, положенный на рану, и ничего не ответил.
Люди продолжали идти. Хуамбо снова спросил, куда они держат путь.
— Идем спать, — ответил за старика молодой.
— Почему не пойти на праздник? — допытывался Хуамбо. — Там очень весело. Я пойду. А вы?..
— Нет!
Они расстались. Старик шел, а за ним тянулся кровавый след. Почти слышалось, как падают, стукают о землю тяжелые капли.
Хуамбо потрогал пальцами рот, боясь, что губы все еще кривятся в подлой усмешке. Нет. Все в порядке. Глупо. Почему старик не простил его? Он ведь только рассмеялся, и все. И попросил прощения. Впрочем, понятно: прямо на волю после работы на фабрике льда выходили замороженные люди. Эх, здорово, думал Хуамбо, стать женщиной и лечь с одним из них в этом пекле, где тело так и горит! Узнать ласку прохлады, прохлады живого человека, прохлады и свежести, прикоснуться к омытой холодом коже, к коже тюленя. Потому-то они и не захотели идти на праздник. Наверное, женщины-гринго платят им за то, чтобы лечь с ними. Такую роскошь, как замороженная любовь, могут позволить себе только те женщины.
Он остановился перед «Семирамидой». Веселье было в разгаре. Парочки, танцующие под маримбу, заполняли галереи. Алькальд Паскуалито Диас танцевал с одной из циркачек, прижимая ее к себе и при каждом повороте чуть ли не сажая верхом на свое колено. Шляпа съехала на затылок — так он старался, продевая ногу меж ног циркачки, толкнуть ее бедром.
— Вы не щадите этого черного бычка! — шепнула она алькальду на ухо, желая еще больше распалить его.
— Я случайно, не гневайтесь на меня!
— Ах, оставьте, дон; для того и создан этот бычок, чтобы вы с ним сражались!
— Уж очень свиреп твой бычок!
— А вы его усмирите!
— К чему усмирять, чем злее, тем лучше!
— Тогда изнурите его!
— Хватит смеяться!
— И не думаю; какой там смех!
И Паскуалито Диас снова закружил ее, вскидывая коленку при каждом повороте. Коленка, нога, он сам… Сам он тоже хотел бы ударить свирепого бычка.
— Я бы расколол тебя надвое!
— Ах, дон Паскуалито, вы меня убиваете!
— Расколоть надвое, и стали бы мы одним целым, как эта орхидея, которая сразу и мужчина и женщина!
— Ну, хватит об орхи… орхидеях, скажите-ка лучше, сможете ли вы достать нам пропуска на празднества в Аютле? Помните, я вас просила?!
— Монополии запрещены! — воскликнул комендант, когда мимо него проносились циркачка и Паскуалито.
— Смотрите-ка, кто голос подает, — ответил ему алькальд. — А сам-то, сам к Тояне пиявкой присосался! Вы танцуйте, комендант, танцуйте!
— Я уже стар для выкрутасов!
— Если таковы старики, то каковы же молодые!..сказала Тояна, подняв руку и оголив пышущую жаром подмышку. Она схватила военного за рукав, словно когтями впилась. И добавила игриво: — Теперь и поплясать никого не раскачаешь, знай себе разговаривают…
— Так вот и я, Тояна, мне бы не плясать, а языком поболтать!
— Какой нехороший!.. — Тояна всем телом навалилась на коменданта, колыхнув тяжелыми плодами грудей, отвернулась и скосила на него огнемечущий глаз.
— «Аи, тирана[82]!.. Тирана!.. Тирана!.. Аи, тирана!.. Тирана!.. Тирана!.. — пели люди, отплясывая. — Аи, тирана!.. Тирана!.. Тирана!..»
Банан, старший из клоунов, поймал мышонка и сунул его коту под нос. Кот с глазами властелина приготовился взять подношение, а мышонок тщетно пытался вырваться из рук клоуна, под пальцем которого стучало, билось в смертельной тоске сердце зверька. Вот уже зубы, глаза, усы и когти кота завладели добычей, но тут клоун вырвал у него мышонка и залился дурацким смехом, глядя, как хищник, оскорбленно мяукнув, бросился за мышью, вертя хвостом, словно в такт алчному нетерпению.
— «Аи, тирана!.. Тирана!.. Тирана!..» — разливалось эхо праздника.
Хуамбо выбрал себе место рядом со стражниками, в толпе, глазевшей на танцующих. А стражникам на все было наплевать; они сидели на земле, зажав винтовки между ног, давая отдых рукам. Только офицер не спускал глаз со своего начальника. Из кухни им принесли по стаканчику водки, пироги с мясом, сыр и закуски. Ох и хороша водочка! Пироги оставили «на потом».
Вернулся кот, деликатно неся в зубах мышонка, а клоуны Банан и Бананчик притворно зарыдали.
— «Аи, тирана!.. Тирана!.. Тирана!.. Аи, тирана!.. Тирана!.. Тирана!..»
Наследники и были тут и не были. Они присутствовали на празднике, но не заполняли его, а словно растворились в пустоте, бродя с озабоченным, отсутствующим видом, не проявляя интереса к событиям, бывшим ранее частью их жизни, а теперь, с этого утра, уже не имевшим никакого значения.
— Бандиты! — воскликнул один из гостей, жалуясь Хуанчо Лусеро на таможенных солдат. — Ворвались в мой дом, говорят, мол, ищем то, что найти не можем.
— Враки, — вмешался один из крестьян, — они уже давно не ищут спиртогонов.
— Еще бы, конечно. Одни выдумки. Они оружие ищут. Кто им вбил в голову, что тут где-то оружие спрятано?..
— Как кто?.. Ихняя же вина. Страх, в котором живут. Думаешь, они не знают, какое творят безобразие, охаивая наши бананы, даже не взглянув на товар? Даже не смотрят. Швыряют, и делу конец. Собаки. Отвез я как-то несколько кистей к банановому поезду, и, клянусь святой девой Марией, — а из меня ведь слезу не выжмешь, — как увидел я, что приемщик и глядеть на кисти не хочет, свинец раскаленный по лицу у меня потек… В дерьмо превратились мои бананы… Потому и говорю своим сыновьям, чтоб уходили, бросали все… Вот вы-то, Хуанчо Лусеро, можете податься отсюда! Жизнь приготовила вам прогулочку с хорошей провожатой, она вам все двери откроет, даже на небо, донья Монета…
— Не знаю, поедем ли мы… — ответил Хуанчо Лусеро.
— А не поедете, давайте нам, — мы отправимся.
— Да если мы с деньгами и здесь останемся, начхать нам тогда на всех гринго.
— У кого деньги, тому нечего петушиться, слышь, Хуанчо, — вмешался кто-то из соседнего кружка. В драку лезть — бедняку, а богач, миллионер кулаками не машет, за него другие дерутся; вон те, вояки, за вас постоят. веселиться, и хватит о всяких бедах. — Хуанчо стал протискиваться сквозь толпу, чтобы распорядиться насчет спиртного.
Бастиансито Кохубуль читал вместе с «Помом» (помощником телеграфиста) новые телеграммы. Им предлагали автомобили, сейфы, радиолы, пишущие машинки, мебель, дома, квартиры, туристские путешествия, виллы, дачи…
— За кого нас принимают эти люди? — удивлялся Кохубуль. — Предлагают нам все, кроме плугов, инструментов, плодоочистительных машин, зерна… — и рассмеялся:- Ха-ха! Вот я уже и в автомобиле, и в квартире с сейфом… Ха-ха-ха! Если б они знали, что мне больше всего граммофон иметь хочется… Вот-вот, куплю граммофон с пребольшущей трубой!
— Да что это вы говорите, дон Бастия, — робко заметил Пом.
— Не Бастия, а Бестия, — прервал чтение телеграмм красивый малый с рыжей копной волос, краснокожий, как кедр, большой приятель Кохубуля. — Его надо называть дон Бестиансито. Ну-ка, назови его дон Бестия…
— Не буду, — ответил Пом. — Это неуважительно.
— Ас каких пор ты уважать-то его стал? Когда прослышал, что он миллионер? Ну и люди! Есть доллары, значит, надо уважать. Он, видите ли, изменился. Уже не тот, что был. Другим стал. Дарохранительница! Неприкосновенная личность! Сокровищница! Святыня! Гляди, я его схватил: мясо как мясо!
— Здорово ты надрызгался, вот что я тебе скажу, пробурчал Бастиансито, потирая руку, за которую ущипнул его рыжий.
— Что, что? — вскинулся тот.
— Пьян ты, говорю…
Рыжий икнул и обернулся к другим:
— Не пьяный я, а веселый! Понятно? Не пьяный, нет! Различать надо…
Но гости, а также Хуан Состенес Айук Гайтан, его супруга Арсения и Крус, жена Лино Лусеро, ему не ответили. Он снова икнул. Качнулся на нетвердых ногах.
— Ничего не поделаешь, — продолжал Кохубуль, обращаясь к Гауделии, своей жене, и Сокорро, старшей дочке, которые подошли к нему. — Во всей этой куче телеграмм, глядите-ка, нам хоть бы для смеха какую-нибудь борону, или мельницу для бананов, или сверло предложили… Даже сверла нет, чтоб мозги нам просверлить теперь, когда… Трубастый граммофон, вот чего я хочу. Пусть трубит, как в Судный день, чтоб все со страху на одно место сели…