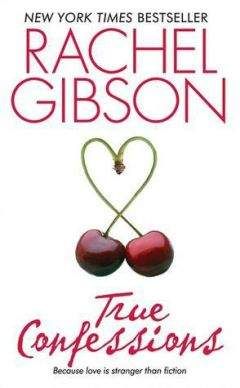Конечно, я тщеславен, правда, уже не в той степени, как раньше, когда еще не потерял зубы и отчасти зрение. И хотя пока что я не потерял рассудок, иногда я чувствую, как он готовится меня покинуть. А вот тщеславие сидит во мне крепко. Мне рассказывали, что, вернувшись домой после первого дня, проведенного в детском саду, я объявил нашей няньке Лиззи: «У меня самый хороший голос в группе». — «Откуда ты знаешь?» — «А я послушал, как поют другие и как я сам пою. У меня голос лучше всех». Я нередко жалею, что подобная убежденность не сопутствовала мне всю жизнь.
Впервые я осознал, что хочу стать писателем, когда расстался с ненавистной английской школой и вернулся наконец в милую моему сердцу Австралию. Нет, дело было, пожалуй, не столько в пробуждении сознания, сколько в насущной необходимости. Меня окружал вакуум, мне было необходимо обрести мир, в котором я мог бы жить напряженной эмоциональной жизнью, как того требовал мой темперамент. И потому за те два года, что я проболтался сначала в Монаро, а потом у Уитикомов[37] в Уолгете, я написал три бессвязных, незрелых романа, которые, к счастью, не были опубликованы, хотя отказы издательств расстроили и больно задели меня. Отдельные эпизоды из первых двух романов всплыли в моих более поздних работах, а третий лег в основу «Тетушкиной истории».
В тот день, когда Англия объявила войну Гитлеру, я находился в Америке, в штате Мэн, где поджидал в Портленде друзей, обещавших повезти меня к себе в Брайтон. Я приехал в Портленд утром и прямо с вокзала пошел в кино. Показывали «Волшебника из страны Оз», американский миф, поверить в который было гораздо легче, чем в реальность ситуации, поймавшей в свои сети не готового к такому повороту событий неприметного молодого человека в английском твидовом спортивном пиджаке. Кто в портлендском кинотеатре слышал хоть что-нибудь про его первый роман[38]? Найдется ли теперь хоть один человек в мире, который захочет этот роман прочесть? Поступь истории крушила мои надежды на литературный успех, и я с благодарностью позволил «Волшебнику из страны Оз» убаюкать меня. Во время войны моя жизнь шла как бы на нескольких разных уровнях. Высоко, под самым куполом, меня раскачивала трапеция, приведенная в движение пророчествами Шпенглера[39], повлиявшими на меня в Лондоне в беспечные тридцатые годы; позже, пролетая в словно ожившем со страниц Жюля Верна грузовом самолете над джунглями и пустынями Африки, я на том же уровне открыл для себя «Бесов» Достоевского. На другом уровне, ниже, были выхолощенная пресса и радиосводки; а совсем внизу манила к себе голливудским многоцветьем Джуди Гарленд, и сквозь рев проносящихся над пустыней немецких самолетов знакомый подрагивающий голос уверял, что мы еще встретимся.
Но все это случилось со мной потом, а пока что я был лишь неприметным молодым человеком, который после конца сеанса вышел из портлендского кинотеатра. Мои друзья, чья болтовня действовала на меня теперь чуть меньше, чем при нашей последней встрече, посадили меня в свою машину и сквозь вечерние сумерки повезли в Брайтон. Раскинувшийся в сосновых лесах у окаймленного летними коттеджами озера, Брайтон был из тех американских городков, где реальность катастрофы сознают, лишь когда над головой срывает крышу, лишь когда сыновья погибают не на чужой войне, а на своей. Спустя несколько дней, заполненных купанием в теплых водах озера и пирушками у костра, где мы лакомились бобами, запеченными в традиционном глиняном горшке, я решил, что должен вернуться в Лондон. Никто не понимал зачем. Да я и не смог бы объяснить. Если о чувстве долга говорить вслух, это всегда звучит очень высокопарно.
Когда я надел военную форму, то по изменившемуся отношению друзей и по взглядам, которые ловил на себе на улицах, понял, что мои акции поднялись. Но меня это скорее смущало, чем ободряло, потому что я знал: под формой я остался тем же, что раньше. Способность любить себя — вот что, вероятно, главное для актера; то, что это же свойство до некоторой степени определяет становление писателя, я понял лишь много позже. В молодости мне всегда бывало трудно примирять искусство с жизнью, и если я все же пытался это делать, то невольно подозревал себя в неискренности.
Заброшенный войной в пыльное захолустье Египта, никому не нужный, никем не замечаемый, я окопался в своем «додже» и с головой ушел в Диккенса — замызганные томики дешевой массовой серии я клал перед собой прямо на руль.
Я читал и читал. Если «Бесов» мне было суждено открыть лишь во время полета на допотопном бомбейском самолете над джунглями и пустынями Центральной Африки, то Диккенс точно так же дожидался своего часа, пока война не закинула меня на Ближний Восток, где те три-четыре дня, что я провел в Тобруке в конце осады, раз и навсегда определили мое отношение к этому писателю. В детстве я не любил и не понимал Диккенса, но тут вдруг пристрастился к нему. Кровоточили и запекались коркой гнойные раны, с неба падали объятые пламенем самолеты, в известняковых карьерах Европы разлагались трупы — на фоне всего этого Диккенс воспринимался мною как теплый пульс растекающегося по жилам здорового дыхания жизни, которая должна продолжаться, противостоя силам разрушения, хотя мощь этих сил признавал и сам Диккенс.
Оторванность от мира, пустыня, подавляемые желания, голос Веры Линн из радиоприемника в палатке КП, письма, которые, может быть, никогда не дойдут по назначению, а если и дойдут, не смогут передать то, что в них вкладывалось, — все это настолько давило на меня, что окружавшая действительность начала постепенно сливаться в моем сознании с воспоминаниями о ночах, когда я сидел в своей комнатушке на Эбери-стрит и читал под взрывы падавших на Лондон бомб. Так в бесплодную, на первый взгляд, почву заронилось семя. А проросло оно много лет спустя в общей палате сиднейской больницы, куда меня привезли из Касл-Хилла с сильнейшим приступом астмы. Я был в полубессознательном состоянии, и передо мной вдруг возникли люди, бредущие через пустыню. Я даже слышал обрывки их разговоров. Я по очереди был то Фоссом, то его совестью, Лаурой Тревельян[40]. Ночью, когда у меня наступил кризис и астма перешла в воспаление легких, я схватил за руку врача, стоявшего у моей постели. Тот отскочил как ошпаренный. Уже поправляясь, но все еще в больнице я набросал контуры будущей книги — теперь я знал, что обязательно напишу ее. Только по возвращении в Австралию, читая школьный учебник, я обратил внимание на сходство Фосса с Лейкхартом[41]. Это побудило меня углубиться в исследования, и отдельные детали для своей книги я позаимствовал из мемуаров людей, оказавшихся под властью безумного немца во время подлинных экспедиций. Сам же Фосс, в отличие от подлинного Лейкхарта, — дитя египетской пустыни, рожденное моей болезненной фантазией в дни, когда над жизнью каждого из нас довлела еще более зловещая фигура другого безумного немца, тоже одержимого манией величия.
Спорное происхождение Фосса вызвало полемику с защищавшими Лейкхарта учеными мужами и повлекло за собой разнобой толкований в многочисленных диссертациях. Всем требовались прежде всего факты, а не творческое переосмысление. Со временем меня простили, Фосса канонизировали, и настал мой черед восстать против тех, кто, руководствуясь собственными вкусами, либо незаконно присваивал родившемуся из воображения писателя живому человеку статус музейной мумии, либо наклеивал на него ярлык романтического персонажа из сентиментальной костюмированной феерии. Добрая половина тех, кто хвалил «Фосса», заявляли о своем восторге только потому, что не усматривали никакой связи между собой и описанным в романе обществом девятнадцатого века. По натуре взрослые дети, многие австралийцы яростно сопротивляются, когда их заставляют взглянуть на себя со стороны, в окружении не сомнительного антиквариата, а пластика и прочего современного мусора, загромождающего задний двор; они избегают заглядывать в глубины подсознательного. И потому они не могут полностью принять все то, что я — пропустив мимо ушей их нападки на «Фосса» — написал про век, в который мы живем. (Если на мой другой, так называемый «исторический», роман, «Пояс стыдливости», австралийцы нападают меньше, это, вероятно, объясняется тем, что образы и сюжет этого романа подводят их к догадке о причинах, сделавших нас тем, что мы есть сегодня.)
Пуританское начало всегда боролось во мне с чувственным. В детстве я стыдился богатства моих родителей. И для меня не были секретом духовные и материальные тяготы тех, кто жил по другую сторону забора, оберегающего жизнь удачливого меньшинства. Поэтому я никогда не получал настоящего удовольствия от всего того, что любой «нормальный» представитель класса, к которому принадлежали мои родители, счел бы причитающимся ему по праву. Слагаемые «благополучия», в том числе и моего собственного, часто вызывали у меня отвращение. Не сомневаюсь, что «нормальные» представители имущего класса с радостью ухватятся за это признание, увидев в нем объяснение того, как им кажется, извращенного взгляда на жизнь, который отражается во всем, что я написал; я же считаю, что шоры, навязываемые системой ценностей австралийских богачей, никогда не дали бы мне увидеть во всей полноте игру многогранного кристалла, имя которому правда жизни.