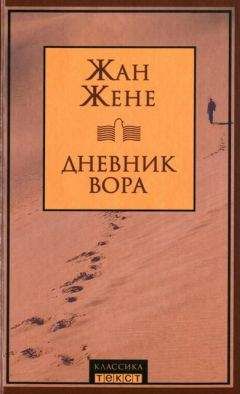— Ты представляешь, что значит отправить туда человека? Мы с тобой оба через это прошли. Так нельзя.
Изменял ли он сам друзьям, продавал ли их? Его близость с неким инспектором полиции внушала мне опасение — и надежду, — что он был стукачом. Опасение потому, что он мог меня выдать и опередить меня в предательстве. Надежду, поскольку она сулила мне соратника по гнусности, подспорье в дерьме. Я понял одиночество и отчаяние странника, потерявшего свою тень. Я продолжал молчать, пристально глядя на Ги. Мое лицо оставалось застывшим. Еще не настало время взять себя в руки. Пусть он трещит без умолку от изумления, пока не выдохнется. Но я не смог больше терпеть его презрения, когда он сказал:
— Жанно, я считаю тебя братишкой. Ты понимаешь? Если какой-нибудь здешний фраер захочет с тобой разделаться, я сдеру с него шкуру. А ты, ты мне говоришь…
Он понизил тон, так как «коты» пересели поближе к нам. (Шлюхи тоже могли нас услышать. Бар был забит до отказа.) Мой взгляд стал жестче, брови нахмурились. Я глотал слюну и хранил молчание.
— Знаешь, если бы не ты, а кто-то другой предложил мне такое…
Несмотря на броню решимости, за которой я укрывался, я был унижен братской нежностью его презрения. Его тон и слова вызывали во мне сомнения. Стукач он или нет? Если он стукач, то может презирать меня за поступок, на который бы сам пошел. И возможно, он гнушается взять меня в соратники по дерьму, поскольку, по его мнению, мне не хватает престижа и блеска и он предпочел бы видеть на этом месте другого вора. Я испытал его презрение на себе. Еще немного, и оно растопило бы меня, как сахарную скалу. Мне следовало, не слишком усердствуя, сохранить свою твердость.
— Да, Жанно, любому другому на твоем месте не поздоровилось бы. Я не знаю, почему я тебе это простил. Понятия не имею.
— Вот и хорошо.
Он поднял голову, приоткрыв рот. Его удивила моя интонация.
— Как?
— Я говорю, что все хорошо.
Я придвинулся и положил руку ему на плечо:
— Дорогой Ги, я так рад. Я сдрейфил, когда увидел, что ты закорешился с Р. (полицейским). Не буду от тебя скрывать. Я струсил. Я испугался, что ты стал стукачом.
— Ты рехнулся. Я связался с ним, во-первых, потому, что он — пройдоха из пройдох, и во-вторых, чтобы он раздобыл мне документы. У этого типа полно бабок.
— Ладно. Теперь я вижу, что дал маху, но вчера, когда я заметил, как вы вместе бухаете, мне стало погано, клянусь тебе. Я ведь на дух не переношу стукачей. Ты понимаешь, что меня как обухом по голове огрели, когда я подумал, что ты мог ссучиться.
Я позабыл об осторожности, которую он соблюдал, осыпая меня упреками, и немного повысил голос. Избавившись от гнета его презрения, я почувствовал облегчение и запрыгал слишком резво и высоко. Я пришел в восторг от того, что вырвался на свободу и предотвратил драку, в которой все сутенеры бара ополчились бы против меня, и от того, что благодаря своему красноречию я взял верх над Ги. Кроме того, жалость к себе, которую я испытывал, придала моему голосу трогательные модуляции, ибо я проиграл, хотя и удержался на ногах. Моя твердость и непреклонность дали трещину, и предполагаемое ограбление, о котором никто из нас не решался заговорить снова, отпало само собой. Нас окружали матерые сутенеры. Они говорили громко, но очень вежливо. Ги рассказывал мне о своей бабе. Я что-то ему отвечал. Меня окутала великая скорбь, которую то и дело прорезали вспышки моей ярости. Одиночество, клубившееся в виде тумана или исходящего от меня пара, на миг озарилось надеждой и захлопнулось надо мной, как крышка гроба. Я мог бы иметь соратника на воле (ибо я уверен, что Ги — стукач), но мне было в этом отказано. Мне хотелось предавать вместе с ним. Ведь я должен обрести возможность любить своих напарников. Нельзя допустить, чтобы из-за своего чудовищного одиночества я оказался в обществе какого-нибудь неуклюжего парня. Во время работы я превращаюсь в комок страха (или скорее света) и рискую упасть в объятия сообщника. Я выбираю его не за рост или силу, чтобы он защитил меня в случае неудачи, а для того, чтобы, спасаясь от безумного страха, броситься под восхитительное укрытие его подмышек и ляжек. Этот выбор чреват тем, что зачастую страх отступает и оборачивается нежностью. Я слишком легко доверяюсь этой спине, этим прекрасным плечам и бедрам. Ги вызывал у меня желание работать вместе.
Он пришел ко мне утром в полном смятении. Я не могу понять, действительно ли он так панически боится. Вид у него сегодня плачевный. Он держался куда увереннее на лестницах и в коридорах Сантэ, общаясь с «котами», чья сила сводилась к домашним халатам, в которые они облачались для свидания с адвокатом. Не в чувстве ли безопасности, даруемом тюрьмой, таилась причина его тогдашнего легкомыслия?
— Мне надо выбраться из дерьма. Найди мне какое-нибудь дело, чтобы я мог смыться отсюда подальше.
Он продолжает жить среди «котов»; вечные величественные движения его головы напоминают мне трагическую манеру актрис и педиков.
— Ты застал меня врасплох. Где же я возьму тебе с ходу наводку?
— Мне все сгодится, Жанно. Если надо, я замочу фраера. Я готов прихлопнуть мужика за двадцать штук. Если бы меня вчера сцапали, я угодил бы на каторгу.
— Мне-то что с того, — сказал я улыбнувшись.
— Тебе не понять. Ты живешь в шикарном отеле.
Он меня раздражает: почему я должен избегать роскошных гостиниц, люстр, салонов и мужской дружбы? Возможно, комфорт будет способствовать полету моего духа. А вслед за духом наверняка отправится и мое тело.
И тут он заулыбался, глядя мне в глаза.
— Месье принимает меня в гостиной. Что, в твою комнату нельзя? Там твой парень?
— Да.
— Он симпатичный? Кто это?
— Увидишь.
Когда он ушел, я спросил у Люсьена, что он думает о Ги. В глубине души я был бы рад, если бы они друг другу понравились.
— У него чудной вид в этой шляпе. Одет, как чучело.
И тут же он перевел разговор на другую тему. Ни татуировка, ни приключения Ги, ни его храбрость не заинтересовали Люсьена. Он обратил внимание лишь на его нелепый наряд. Человек со вкусом может посмеяться над элегантностью воров, и тем не менее они с трогательным усердием наряжаются днем и особенно вечером, прилагая не меньше усилий, чем кокотка. Они стремятся пустить пыль в глаза. Из-за эгоизма их индивидуальность проявляется лишь в уходе за телом (у «кота», одетого лучше, чем принц, убогое и нищенское жилье). Но каким образом это почти всегда неуместное стремление к щегольству проявляется у Ги? Что оно означает, если он носит дурацкую голубую шляпу, тесный пиджак и платочек в верхнем кармашке? Хотя у Ги нет детской прелести и сдержанности Люсьена, он наделен бурным темпераментом, более горячим сердцем, более страстной и пламенной натурой, и посему я все еще им дорожу. Он способен, как он утверждает, пойти на убийство. Он может спустить все свои деньги за один вечер ради себя или друга. Это лихой парень. Возможно, все добродетели Люсьена не стоят в моих глазах мужества этого нелепого вора.
Любовь к Люсьену и счастье этой любви склоняют меня к тому, чтобы признать мораль, более подобающую вашему миру. Дело не в том, что я стал более великодушным, — я всегда был таковым, но мне кажется, что шершавая цель, к которой я стремлюсь, суровая, как железный флажок на макушке ледовой горы, столь желанная, столь любезная моей гордости и моему отчаянию, подвергает мою любовь чрезмерной опасности. Люсьен не подозревает, что я нахожусь на подступах к преисподней. Мне все еще нравится идти туда, куда он меня ведет. Насколько сильнее, вплоть до головокружения, падения и рвоты, опьяняла бы меня любовь, если бы Люсьен был вором и предателем. Но любил бы он меня в таком случае? Разве его нежность и легкое смущение, которое он во мне вызывает, не объясняются его мягкостью и покорностью правопорядку? И все же я хотел бы связать свою жизнь с каким-нибудь невозмутимым, но улыбающимся извергом, сделанным из железа, который грабит, и убивает, и стучит на мать и отца. Я все еще мечтаю о нем, чтобы сделаться чудовищным исключением, под стать чудовищу — посланцу Бога, которое удовлетворит мою гордость и страсть к духовному одиночеству. Любовь Люсьена приносит мне радость, но когда я прохожу по Монмартру, где долгое время жил, то, что я там вижу — вся эта грязь, — отдается в моем сердце болью и возбуждает мое тело и душу. Я лучше всех знаю, что в этих трущобах нет никакой тайны, и все же они кажутся мне загадочными. Решение вновь поселиться здесь, чтобы обрести гармонию с преступным миром, стало бы немыслимым возвращением в прошлое, ведь эти кварталы бездушны, как местные урки с бесцветными физиономиями, а «коты», наводящие страх на округу, удручающе глупы.
Ночью, когда Люсьен возвращается в свою комнату, я пугливо съеживаюсь под одеялом и мечтаю о том, чтобы рядом со мной возлежало тело более грубого, более грозного и более нежного вора. Я намереваюсь вскоре вернуться к опасной жизни бродяги в самом злачном квартале самого злачного порта. Я брошу Люсьена. Пусть он выкручивается как может. Я уеду, отправлюсь в Барселону, Рио или куда-то еще, но сначала сяду в тюрьму. Я повстречаю там Сека Горги. Черный великан осторожно вытянется на моей спине. Негр, кромешнее ночи, окутает меня своим мраком. Его мышцы, возлежащие на мне, станут пульсирующими приливами могучего океана, стремящимися сойтись в неподатливой, неистово атакованной точке, и все его тело, сосредоточенное на своем желании, которое ведет к моему же благу, будет содрогаться от удовольствия. Потом мы замрем. Он продолжит свое погружение. Затем, сраженный дремотой, негр навалится на мои плечи и сокрушит меня своим мраком, в котором я мало-помалу растаю. Открыв рот, я буду чувствовать, как он цепенеет, прикованный своим стальным стержнем к этой сумрачной оси. Я обрету легкость. Я позабуду о всякой ответственности. И мой ясный взор — дар орла Ганимеду — воспарит над миром.