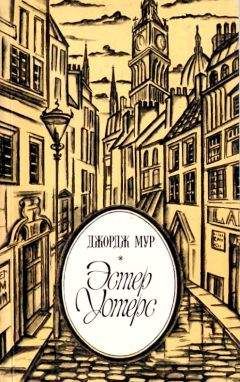— Ох, извините, сэр! Я нашла эти полкроны на полу в вашей комнате.
— Что же тут такого необыкновенного? Чего это вы разволновались? Вы же хотели вернуть мне эту монету, так я полагаю?..
— Понятное дело, я хотела ее вернуть! А то как же… — Эстер внезапно умолкла. Ее красивые серые глаза вспыхнули презрением и гневом, и уголки пунцового рта опустились вниз, как у собаки. Она вдруг поняла, что этот бледный, одутловатый молодой человек нарочно положил монету в такое место, куда она могла якобы случайно закатиться и где Эстер рано или поздно должна была бы ее обнаружить. Не сегодня ли утром он жаловался, что она недостаточно тщательно убирает его комнату! Это был хорошо продуманный план. Он все время следил за ней и теперь, конечно, думает, что только проявленное им любопытство помешало ей попасться на крючок. Не прибавив больше ни слова, Эстер уронила монету к его ногам и возвратилась к прерванной работе. С этой минуты она упорно отказывалась разговаривать с мистером Джоном; она исполняла все его приказания, но ни разу не обмолвилась при этом ни словом, не произнесла даже ни «да», ни «нет».
В краткие минуты послеобеденного отдыха вся накопившаяся за день усталость с особенной силой придавливала ее к земле; смертельная слабость разливалась по телу, и ей казалось, что она никогда уже не сможет собраться с силами, не сможет заставить себя выбивать ковры или подметать лестницы. Но если она не вскакивала с места с первым ударом часов, возвещавшим конец отдыха, миссис Бингли тотчас спускалась в кухню.
— Что случилось, Эстер, разве вам нечего делать?
А к вечеру, примерно так часов около восьми, Эстер чувствовала, что ноги отказываются ее держать. После четырнадцати часов почти непрерывной физической работы ей казалось, что на оставшиеся три часа у нее, как бы она ни старалась, не хватит сил. Именно эти завершающие дневной труд часы требовали непомерного напряжения всех ее душевных и телесных сил. И даже мысль о долгожданном отдыхе в одиннадцать часов вечера была омрачена сознанием, что завтра снова наступит такой же день, и долгие беспросветные часы этого грядущего дня, казалось, глядели на нее из темноты своими пустыми незрячими глазницами. Нередко она бывала так утомлена, что не могла уснуть и ворочалась с боку на бок на своей жалкой постели в чердачной каморке, чувствуя, как ноет у нее все тело. Непосильная работа заглушала в ней все человеческие чувства, даже мысль о ребенке оставляла ее равнодушной. А что, если он умрет! Она не желала смерти своему ребенку, но не могла забыть слов миссис Спайрс: ее ноша никогда не станет легче, наоборот, она день ото дня будет нее тяжелее и тяжелее. Какой конец ее ждет? Неужто нет для нее спасения? Эстер зарывалась лицом в подушку, стараясь заглушить нараставшее отчаяние. Не под счастливой родилась она звездой, да и сама упустила то, что шло ей в руки.
Поработав шесть месяцев в доме на Челси, Эстер был а уже истощена до предела, но тут на помощь ей пришло то, что принято называть случаем, и это решило ее судьбу. В этом единоборстве характера с обстоятельствами до сих пор победу одерживал характер. Но чаши весов стояли так ровно, что, казалось, малейший толчок мог изменить положение. И тут обстоятельства бросили в схватку с характером свежие силы. Как-то утром громкий стук в дверь поднял Эстер с постели. Миссис Бингли пришла спросить, известно ли ей, который час. Было уже почти семь часов. Впрочем, миссис Бингли не могла отчитывать Эстер слишком сурово, ибо сама забыла включить электрический звонок. Эстер принялась поспешно одеваться, но второпях наступила на подол платья и оторвала его. И надо же, чтобы случилось такое, когда она и без того запоздала! Эстер приподняла разорванную юбку. Это была жалкая изношенная тряпка, починить ее будет трудно… Эстер услышала голос хозяйки. Ничего не оставалось, как спуститься вниз и объяснить, что произошло.
— Переоденьтесь, разве вам больше нечего надеть?
— Нечего, мэм.
— Но я же не могу позволить вам отворять дверь в таком виде. Служанка в рваном платье не делает чести моему дому. Вы должны немедленно приобрести новое.
Эстер пробормотала, что у нее нет на это денег.
— Куда же вы тратите свое жалованье, не понимаю.
— Это уж мое дело. Не беспокойтесь, у меня есть, куда его потратить.
— Я не могу позволить прислуге разговаривать со мной в таком тоне.
Эстер молчала, и миссис Бингли добавила:
— Это мой долг — следить за тем, как вы тратите ваши деньги, и позаботиться о том, чтобы вы не истратили их ни на что дурное. Я отвечаю за вашу нравственность.
— В таком случае, мэм, я думаю, мне лучше взять расчет.
— Вы хотите бросить место только потому, что я, зная, какими соблазнами окружена каждая молодая девушка, не могу позволить вам дурно распоряжаться вашими деньгами?
— Ну, для того, кто работает по семнадцать часов в сутки, соблазн не страшен!
— Эстер, вы, по-видимому, забываете…
— Нет, мэм. Только впустую этот разговор о том, куда я деваю свои деньги… Есть и другая причина. Работа у вас для меня не по силам. Я это уже давно почувствовала, мэм. Здоровье мое не выдерживает.
Высказав наконец все, что накопилось у нее на душе, Эстер уже не захотела отступить и решительно отклонила все попытки миссис Бингли уговорить ее остаться. Она понимала, что подвергает себя большому риску, отказываясь от места, и вместе с тем, подобно затравленному животному, которого инстинкт гонит из его логова искать спасения в бегстве, она поступала так, как подсказывал ей внутренний голос. Ее тело жаждало отдыха, она чувствовала, что он ей сейчас необходим. Миссис Льюис примет ее с ребенком за двенадцать шиллингов в неделю. Уже подошло рождество, и ее сбережения возросли до пяти фунтов двадцати шиллингов: миссис Бингли подарила ей десять шиллингов, мистер Хьюберт — пять, а молодые барышни — остальные десять. На эти деньги Эстер рассчитывала купить себе платье, пару ботинок и отдохнуть недели две у миссис Льюис. Этот план созрел у нее педели за три до истечения месячного срока, который она должна была отработать после того, как попросила расчет, и ей казалось, что последним тягостным дням не будет конца; стремление вырваться на свободу из этого плена порой охватывало ее с такой неудержимой силой, что она жила словно в бреду. Всякий раз, присев поесть, она думала о том, что еще на несколько часов приблизилась к цели — к своему двухнедельному отдыху; большего она себе позволить не могла, но в ее теперешнем беспросветном существовании эти две недели рисовались ей одновременно и раем и вечностью. Только одна мысль пугала ее: что, если здоровье сдаст, она не дотянет, сляжет и проболеет весь долгожданный отдых? В эти дни крайнего физического истощения ее мысли были далеки от ребенка. Даже для матери необходимо получать что-то в ответ на ее любовь, а в этот год ее Джекки потребовал от нее многого, ничего не дав взамен.
Но вот настал день, когда она отворила дверь дома миссис Льюис, и ее Джекки с криком: «Мама, мама!»— со всех ног бросился к ней. А когда он сразу же оказал ей предпочтение, взобравшись на колени к ней, а не к миссис Льюис, любовь пустила новые свежие ростки в ее материнском сердце.
Стояли те редкие солнечные дни января, когда глаз, обманутый ярким светом и теплом, невольно ищет на земле цветов и с трудом верит, что земля гола. В эти дни все яркие послеполуденные часы Эстер неразлучно проводила с Джекки. Они поднимались на вершину холма; оттуда их путь лежал по узкой улочке между кирпичной стеной и высоким дощатым забором. Здесь Эстер обычно брала сына на руки, потому что дорога становилась скользкой и грязной, а Джекки любил поглядеть в щелку на свиней. Но когда они выходили на гладкое, широкое шоссе, сбегавшее в долину, Эстер спускала Джекки с рук, и он с криком: «Гулять мамочка гулять!» — устремлялся вперед, и его маленькие ножки мелькали с такой быстротой, словно он катился на колесиках. Эстер спешила за ним, и порой ей приходилось даже бежать, — она очень боялась, как бы он не упал. Они спускались с холма в парк и проводили много счастливых часов среди нарядных цветочных клумб и извилистых дорожек. В этих прогулках Эстер отваживалась забираться довольно далеко — до старой деревни Далвич, и они бродили там по длинной сельской улице, за которой лежали убогие, безрадостные поля, перегороженные поломанными плетнями. Потом Джекки начинал проситься на руки, и Эстер радостно было нести сына, чувствуя его тяжесть. Утомившись, она отдыхала, прислонясь к ограде какой-нибудь фермы и глядя на неясные очертания раскинувшейся внизу долины. Когда же вечерняя прохлада пробуждала ее от грез, она, прижав Джекки к груди, поворачивала к дому и с новой силой ощущала прилив счастья.
Вечера тоже были исполнены очарования. Зажигались свечи, на стол подавался чай, Джекки дремал у Эстер на коленях, а она глядела на мерцающий огонь и погружалась в мечты, изредка прерываемые безыскусственной болтовней миссис Льюис. Потом, уложив ребенка, она принималась за шитье, пытаясь соорудить себе новое платье, или, нагрев большой чан воды, обе женщины становились к корытам. Тогда на следующий вечер они уже стояли по обе стороны гладильной доски; ярко горела свеча, и в тишине маленького коттеджа отрадно звучала незамысловатая женская беседа. Услыхав, что часы бьют девять, они отправлялись спать, и так неспешно текли дни — счастливые и обыденные, как простая мечта. До конца третьей недели миссис Льюис и слышать не хотела, чтобы Эстер начала подыскивать себе место, но тут Эстер неожиданно повезло. Приятельница миссис Льюис сообщила ей о том, что одна служанка отказывается от места где-то в районе Вест-Энда, и на следующий же день Эстер отправилась по адресу. Удача продолжала ей сопутствовать, однако не успела она проработать на Онслоу-сквер и недели, как ей сказали, что хозяйка хочет с ней поговорить и ждет ее в столовой.