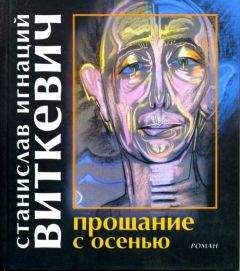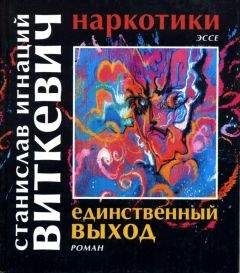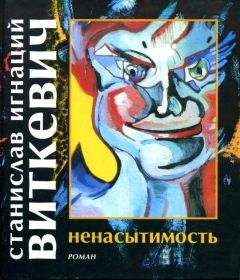«Все еще впереди», — совсем недавно повторял он. Богатство хотя бы колебаний между противоречивыми состояниями, казалось, было неисчерпаемым. И теперь он, как жалкий побирушка, завистливо смотрел на себя тогдашнего, он ясно видел, как то, что он считал своим неотъемлемым богатством — артистическое восприятие жизни, — неизвестно когда пролетело у него мимо рук. И даже не было уверенности, богатством было то или кучей мусора. «Симптом самого сильного упадка — это когда мы начинаем завидовать людям, живущим иллюзиями», — подумал Атаназий, а в его воображении перемещались все его знакомые, жертвы, как ему представлялось, иллюзий: Зезя — важности искусства, Хваздрыгель — истины в науке, Выпштык — возрождения человечества через религию, Ендрек — кокаина, Темпе — счастья в постепенной утрате человеческого облика — о, этот, может быть, менее остальных. Этот проклятый Темпе всегда был в чем-то прав. «Но во имя чего моя жизнь должна превращаться в невыносимую муку?»
Вдобавок ко всему Зося через месяц сообщила (не без определенного удовлетворения, от которого Атаназия мороз прошиб до самого «метафизического пупка»), что она в интересном положении. Она бросила работу санитаркой в больнице и перестала читать лекции о гигиене для скучающих и одуревших солдат — она обрушилась на Атаназия всей тяжестью своих чувств, диапазон которых простирался от тихой безграничной привязанности до безумного, разнузданного в своем бесстыдстве эротизма. И то и другое порой доводило Атаназия до отчаяния. Некоторое разнообразие в этот слоеный пирог вносили вкрапления кратких периодов какого-то ненормального презрения и отвращения уже на грани легкого бзика. Атаназий напрасно терялся в догадках: Зося уже перестала понимать самое себя. И тогда, как назло, к нему возвращались периоды, прикидывавшиеся прежней «большой любовью», а когда Зося была нежной и любящей, его душило отвращение к ней, к теще, к вилле и к несвоим деньгам. А о том, чтобы пойти на какую-нибудь новую службу, и речи быть не могло: лучше мгновенная смерть. Но хуже всего было то, что, несмотря на приступы отвращения, Зося любила его таким, каков он был — падшим, завравшимся, слабым, — потому что, наверное, не могла она не верить ему, когда он чересчур откровенно исповедовался перед нею в своих сомнениях, как человек, которому уже больше нечего терять. Но что превосходило уже всяческое воображение, так это то, что Зося любила его как отца своего будущего ребенка. «Верх извращения», — говорил себе Атаназий, перестав что-либо понимать. Он потерял свой чисто мужской шарм, который ему удавалось сохранять даже в минуты самых больших провалов. А мысль об этом ребенке (его ребенке! просто невероятно) становилась невыносимым кошмаром. Он мысленно представлял какого-то отвратительного урода, какой-то неспособный к жизни гибрид, страдающий еще больше, чем сам он, абсолютного дегенерата, который в нарождающемся общественном бытии мог быть или абсолютно пассивной требухой, лишенной любой, даже негативной ценности, или одной из тех крутящихся обычно во всех переворотах каналий, выполнявших низшие функции — палачей, шпионов и прочей шантрапы. Он даже не подумал, что у него могла родиться дочь, что еще можно было бы пережить. «Нет — с „этой“ (как он уже в мыслях называл Зосю, но в другом значении, чем до сих пор Гелю), с этой я не могу иметь ребенка, но, видать, придется, потому что не отважусь сказать ей об этом. С той, с этой адской иудейщиной, только мог бы позволить такое: был бы сын, который что-нибудь сделал бы в этом мире, может быть, то, чего не исполнил я. Но что? Черт побери, что? И все то, что во мне было гнилого, в нем было бы только заточкой инструмента силы, которую могла бы дать ему „та“». Геля, которая перемещалась теперь на роль «той», постепенно становилась для него, подсознательно, символом высшей формы самоуничтожения, а выражалось это в том, что именно с ней он хотел иметь ребенка. «Если не умеешь жить творчески, то следует хотя бы творчески уничтожить себя» — так когда-то говорил ставший теперь уже полным психическим уродом Зезя. Темпе, Зезя и Хваздрыгель вставали перед ним живыми укорами совести, экранами, на которых с адской четкостью он видел свою бездарно промотанную жизнь. Как же страшно завидовал он всем тем, кто является хоть кем-то (или — «кеми-то»?) — все равно чем, хоть чем-то. Но постепенно в круг этих зеркал, в которых он видел отражение своего ничтожества, стала входить и Зося; где-то очень глубоко он начинал ее ненавидеть, но еще не признавался в этом себе. Она тоже становилась «кем-то», в качестве будущей матери, вне зависимости от того, какого урода ей предстояло родить. Этим самым она получала перед ним какое-то непонятное преимущество, и это тоже было поводом скрытой ненависти Атаназия. В то же самое время он любил ее как некую хорошую, даже добрую, обиженную зверушку, и это противоречие раскалывало остатки корня его сил.
И ко всему — этот проклятый, скучный, как хронический туберкулезный перитонит, перманентный социальный переворот, колеблющийся сейчас между полнейшей реакцией и революцией социалистов-крестьяноманов, день ото дня становившихся сильнее. Иначе представлял себе Атаназий все то, о чем говорил с друзьями еще пару месяцев назад. Революция стала для некоторых лишь предлогом для завершения их собственной жизни, не нужной ни им самим, ни кому другому, кроме таких вот отбросов. «Они томятся в нетворческой растительной вегетации и хотят, чтобы хоть что-нибудь происходило им на потеху», — сказал как-то этот проклятый Темпе, который, похоже, был прав во всем, что не касалось религии, искусства и философии — недостойные их наполнения пустые слова, которые было стыдно даже произносить. «Вот в чем состоит революционизирование половины так называемой „интеллигенции“. А к тому же еще нищета и слабая надежда — „а вдруг станет получше“. Нам такие не нужны», — он так посмел выразиться. «Нам нужны люди идеи, а не несостоявшиеся самоубийцы, поджидающие, за неимением личной смелости, удобного случая». Революция как забава для скучающих, бесплодных отбросов худшего сорта! Это возмутительно, но что делать с тем, что кое-кто обязан прожить ее именно так. «Мы на историческом переломе, и на сегодняшний день пока еще имеются все категории. Жизнь пройдет мимо некоторых из них (если только не раздавит мимоходом) и оставит подыхать в моральной нищете, как на необитаемом острове одиночества, среди муравейника созидающего себя нового человечества. Оттуда, как из ложи, они смогут наблюдать конец их света», — так говорил Темпе.
«Избыток определенных типов, которых трудно охарактеризовать в общих чертах, всегда симптом нездоровья соответствующих сфер: сегодняшний избыток логистиков в математике, живописцев-извращенцев на фоне конца этого некогда самого великого искусства, избыток художников этого типа вообще в эпоху заката искусства. За это никому не нужное количество (мало того, что они становятся все более чуждыми обществу, их все еще слишком много) человечество платит качеством произведений, которые далеки от величия созданного прежде. Ну, может быть, с математикой чуть иначе, но и этот подкоп под основы ничего хорошего не обещает. То же и с избытком псевдо-Гамлетов вроде меня, людей искусства без формы — доказательство того, что эта тошнотворно-демократическая сфера, к которой я принадлежу, вымирает. Демократизация гамлетизма. Но разве этот жизненный тип хоть когда-нибудь был ценностью? Герои романа становятся под конец либо: а) безжизненными манекенами, либо б) людьми искусства, когда уже ничего позитивного выжать из них нельзя, либо в) в лучшем случае революционерами, причем революционерами неопределенного сорта» — так горько думал Атаназий, когда через две комнаты от него Зося, эта столь любимая еще пару месяцев назад Зося, мучилась страшными рвотами, которые вызвал в ней уже любимый ею эмбрион будущего дегенерата. Сколько же подобных комбинаций было вокруг?! А везде вокруг поджидали здоровые хамские (Темпе говорил это с гордостью) силы, чтобы дорваться до жизни своей собственной, той, которая для некоторых было концом «всего» — религии, философии, искусства...
«Тьфу, к черту с этим паскудством, с этой проклятой троицей мертвых ценностей! Зря мы заваливаем им дорогу. И этот наивный Выпштык думает, что Церковь (причем любая) возьмет когда-нибудь управление миром в свои руки! Безумные иллюзии à la Красинский в „Не-Божественной“. Наоборот: мавр сделал свое дело и теперь может уйти. Ну и где здесь странность бытия? Все само себя определило, выяснило, ограничило, выравняло — есть только общество, совершенно без тайн, как единственная реальность всего мироздания, а все прочее — лишь его продукт. Фикции, позволяющие жить определенному виду скотов! — и все-таки индивидуум... и так по кругу. Только в сознательном самоуничтожении индивид может сегодня пережить самого себя, точно так же, как когда-то индивид переживал себя созидая. Уйдем с дороги сами, пока нас не вымели, как мусор. А кто играет в плоский оптимизм (на нашей стороне, разумеется; там, где действует Темпе, там имеют на это право), тот близорукий кретин, не видящий всего трагизма положения, потому что ему пока еще дают немножко подышать, пожрать и погреться на солнышке. Но и это кончится. Это мы, художники без формы и без созданных произведений, дилетанты от философии, неспособные создать „непротиворечивую систему“, мы, погрязшие в мелких суевериях и не принадлежащие ни к одной из Церквей вырождения религии, мы потомки по прямой прежних истинных творцов жизни, искусства и метафизики, а не сегодняшние псевдовластители, псевдохудожники и приспособившиеся к обстоятельствам жрецы вымирающих культов, вроде отца Иеронима, и остервенело рассекречивающие Бытие философы, сводящие все к надписям типа „проход запрещен“ или более того: „дорога находится в частной собственности — проход разрешен до отмены разрешения“. Это самые настоящие выродки, но и их заодно с нами разотрет набирающее силу социальное чудовище».