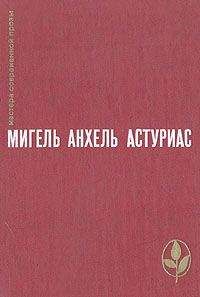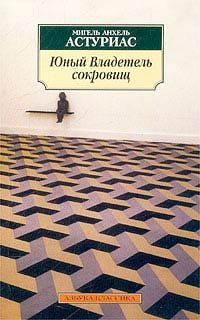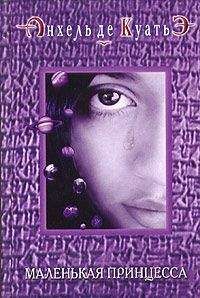— Ничего не поделаешь, — продолжал Кохубуль, обращаясь к Гауделии, своей жене, и Сокорро, старшей дочке, которые подошли к нему. — Во всей этой куче телеграмм, глядите-ка, нам хоть бы для смеха какую-нибудь борону, или мельницу для бананов, или сверло предложили… Даже сверла нет, чтоб мозги нам просверлить теперь, когда… Трубастый граммофон, вот чего я хочу. Пусть трубит, как в Судный день, чтоб все со страху на одно место сели…
И пока донья Гауделия и дочка его Сокорро читали телеграммы, Бастиан не отставал от Пома:
— Ни плуга, ни плодоочистки, ни мельницы, ни бороны, ничего, что нам…
— Ничего, что вас может унизить! — перебил его Пом, которому надоела эта литания. — Не мое дело судить, но, думается мне, ни к чему предлагать эти штуки, они вам больше не нужны. Ведь с такими деньгами вы не будете сажать бананы, фасоль, маис на берегу, ходить за коровами, а если и будете, то как гринго: приедут, поглядят, на местах ли надсмотрщики, и уберутся восвояси…
— Уберутся, а скуку свою здесь оставят… — вынырнула, и пропала, и снова вынырнула пьяная огненная голова. — Только затем сюда и приезжают гринго, хандру свою подбрасывать. И не будь господа бога, который иногда ураган посылает, давно бы мы все от сплина подохли. Извините за словечко, а? Я что-то сказал? Spleen… Сплин!
— Знаешь, есть такие семейки, где все в разных партиях состоят, а за одним столом едят. Вот и ты, лаешь на гринго, а твой двоюродный братец, судья, их защищает. Он даже на праздник не пришел, боялся, как бы «Тропикальтанеру» не стали ругать.
— Замолчи, Бастиан, не говори мне про это дерьмо собачье!
Донья Гауделия сделала вид, что ничего не слышала, и удалилась со своей дочкой Кокитой[83] и с телеграммами — весь ворох с собой забрала. Кстати, надо было взглянуть и на грудного малыша.
Макарио Айук Гайтан потешался над лихими шутками, которые отпускал бритоголовый старик с белыми усами. Макарио сказал, что они, наверно, уже не будут работать на побережье, ни на побережье, ни в другом месте, и что ему остается только нанять старика с белыми усами, бритую башку, чтобы тот смешил его своими выходками.
— Нанять? — переспросил старик обиженно. — Нанять меня, старого Лариоса Пинто? Нанять? — выпятил он щуплую грудь и покрутил белесые усы сухими стариковскими пальцами. — Не затем ушел я из столицы, сбежал, обучившись стольким вещам, из города, чтобы меня нанимали. Мне всегда претила роль наемного имущества, назовите его хоть чиновником или служащим; меня тошнит от одной мысли, что надо сдавать себя внаем. Впрочем, мысли — это принадлежность свободных людей! А я приехал на побережье запроданным, — вот ведь благодать! — запроданным одной иностранной компании, компании, которой продали всю эту страну и почему-то не продали заодно и нас с вами. Это мне кажется явной несправедливостью. Но Лариос Пинто не мог отстать от родины, и потому я приехал запроданным.
Вокруг старика образовалась группка любопытных слушателей.
— Нет, друг мой и приятель Макарио, нечего и говорить о найме, это меня оскорбляет. Ты меня купишь. Нанимают только публичных девок, а всех остальных женщин покупают.
Громовой хохот раздался в ответ.
— Великое счастье, Макарио, сделаться твоим рабом! Перестать быть рабом этих проклятых янки! Извиняюсь, моих божественных господ, которые приковали меня к подневольному труду моими же потребностями и пороками, — надо же мне есть, да и поспать я не прочь! Я принадлежу им и всегда буду принадлежать, если Макарио Айук Гайтан не заплатит того, что я стою, и не купит меня… Снимет ярмо и поставит клеймо, будь оно проклято! Почему бы не заявить во всеуслышание, что рабов надо клеймить?
Число слушателей, потешавшихся его забавной болтовней, все росло.
— С тех пор как я здесь, верьте мне, я счастлив, потому что рабство — это то же супружество, а ведь в нем человек находит самый смак своего счастья. Но, правда, нужно приноравливаться, забывать о законах, защищающих от эксплуататоров, не страдать из-за того, что эти законы остаются лишь на бумаге, и не требовать их выполнения, ибо тогда ты будешь не просто рабом, а рабом, распятым самыми презренными из центурионов.
— Да здравствуют свободные люди! — закричал Поло Камей, до которого явно не доходили слова Лариоса.
— Согласен. Да здравствуют свободные люди! Тот, кто говорит, что есть рабы, не хочет сказать, что у нас не остается места для свободных людей. Но на них скоро будут смотреть как на выродков, как смотрят ныне на пропойц; про таких скажут: погляди-ка, — и ткнут пальцем, — вон чудак гуляет на свободе.
Снова раздался взрыв смеха. Камей, маленький решительный человечек, пробился сквозь толпу к Лариосу.
— Старый пошляк! Если кто и купит тебя, как купили гринго, так только одни азиаты!
— Согласен на пошляка, хуже быть трепачом! Камей ринулся на него.
— Потише, Поло, — вмешались люди, — чего лезешь в бутылку?
— Говоришь, желтая опасность? — ухмыльнулся Лариос. — Я предпочел бы ходить с косичкой, как китаец, чем…
— Да нет же, Поло, это все шутки; кто пожелает быть рабом!
— Вот этот! — проворчал Камей. Схватив за плечи, его вынудили дать задний ход, как говорят автомобилисты.
— А кто же мы, по-вашему?! — вырвалось у Лариоса.
— Врет! Пустите, я покажу ему, какой я раб! Поло Камей не раб!
Вмешался пьяный с рыжей шевелюрой:
— Не р-р-рабу, а жену даю я тебе! — И тут же извинился:- Пр-р-рошу прощения, я помешал свадьбе?.. А кто тут невеста?
От Лариоса он качнулся к Камею, потом обратно, ощупал их одежду, стараясь понять, кто из них двоих невеста, — пьяный туман застилал глаза. Выходка пьяного разрядила атмосферу, даже спорщики расхохотались.
— Ну-ка, еще по глотку! — закричал Макарио, обняв Лариоса и Камея. — Эй, там, в столовой! Скажите, чтобы нам вынесли по стаканчику!
Пьянчуга поддакнул:
— Не возр-р-р-ражаю…
— Против чего не возражаешь, дружище? — спросил его Лариос.
— Тр-р-рахнуть по стаканчику…
Его шатнуло назад: он делал больше шагов назад, чем вперед, но, пятясь, не удалялся, ибо, топчась и кружась на месте, задом двигался вперед. И болтал:
— Хватить стаканчик… Вспомнить мать родную… да и заплакать… А у меня нет ни стакана, ни матери, ни крова, ни пса… Ни крова… пса… во-пса-минаний, которые бы лаяли на меня… Потому я и не плачу… А это очень трудно… удержать ночь… Руки-то тяну, а она ускользает… Такая мягонькая, никак не удержать… Пойду, силой рассвет не пущу… Мы только и можем силу на всякие глупости тратить. А если взять бы волю железную… да и воткнуть ее в небесное колесо ночных часов?.. — И, спускаясь по ступенькам в ночь, он запел: — «Аи, тирана, тирана, тирана!..»
Фейерверк, бушевавший вокруг «Семирамиды», рассыпал на земле горящие угольки и пепел. В ветвях кокосовых пальм по-прежнему торчали головы пеонов, парней и мальчишек, с восторгом взиравших на празднество. Где тут орехи, где головы? А над ними звезды. Где тут ангелы, где звезды? Незатухающая ночь. Утренняя звезда. Жены ночных сторожей почесывали одной ногой другую в ожидании мужей, а мужья ушли на работу больными. Сгорая в огне лихорадки. Слабый фитилек дыхания в живых трупах. Ночной сторож — днем труп, не работник. Зачем заставляют работать трупы? Кричит смерть. Зачем берут работать трупы? Я призываю их! Этих, этих самых с костями, прозрачными от голода, с ватными глазами, с зубами как решетка, на которой жарится молчанье… в ожидании хлеба!.. Верните мне моих мертвых!.. Но с плантаций, где жизнь превзошла самое себя в щедром расточении жестокостей, не донеслось даже эха в ответ, никто не ответил смерти, только машинки стучали вдали, маленькие машинки под руками time-keepers[84], на каждой из которых отстукивались числа, цифры, поденная плата…
— Тоба!
Одиноко прозвучало имя. И осталось одно только имя. Жемчужные грозди теплой дымки плыли над горячими береговыми песками, на которых закипает жгучее тропическое море; эту дымку раскаляет песок и развевает ветер, эта дымка окутывает тела таких женщин, как Тоба.
— Тоба!
В какой частице воздуха, в каком мгновении времени, в каком миге вечности был Хуамбо Самбито, когда услыхал это имя, только что произнесенное Гнусавым неподалеку от конвойных, между праздничным светом, заливавшим патио, и тенью дерева гуарумо.
— Тоба!
Таинство кровного родства. Еще до того, как он стал самим собой, он уже был братом Тобы. Он не знал ее, никогда не видел, но оба они вышли из одного мира, водянистого, сладковатого, из одной ватной рыхлости плоти, как червяки, — об этом, терзаясь, думал он сейчас, слыша имя своей сестры. Тоба. Таинство кровного родства.
И его затрясло, как в припадке. Гнусавый держал ее за руку; вот она вся — белые глаза; габача[85], накинутая на плечи и едва прикрывающая коленки; ноги в сандалиях на резине; длинные руки, бесконечно длинные, окунутые в тень, лижущую ее тепло, которое, он знал, вышло из той же материнской утробы. Он не помнил ее. Его бросили в лесу на съедение ягуару. Так поступили родители. Рот наполнился горькой слюной.