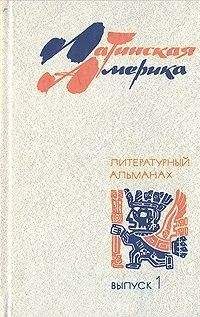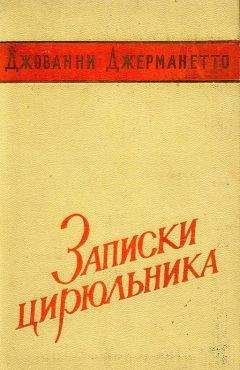Оттен от удивления переступает порог камеры и, словно не расслышав, переспрашивает:
— Чего тебе надо?
— Библию, господин дежурный!
— На что тебе Библия?
— Читать, господин дежурный. В ней есть прекрасные главы. Особенно в Ветхом завете.
Оттен в недоумении, молча смотрит на заключенного. Затем его охватывает ярость.
— Ах ты, свинья паршивая, хочешь поиздеваться над Библией! Знаю я вас!
И он наотмашь бьет Крейбеля по лицу.
— Вот тебе за Ветхий завет, мерзавец… Я-то знаю, чего ты хочешь… Посмей у меня еще раз постучать в дверь!
Едва Оттен выходит из камеры Крейбеля, как рядом раздается стук.
— Заткнись, идиот! Что мы у вас, мальчики на побегушках? — доносится до Вальтера сквозь запертую дверь голос надзирателя.
Крейбель придвигает табуретку к окну и осторожно, прижимаясь всем телом к стене, влезает на нее. Часовой медленно ходит вдоль стены, разглядывая на снегу отпечатки следов.
Короткие тихие сумерки переходят в ночь. Луна становится блестящей и яркой. Кое-где вспыхивают звезды. Вдали за сверкающими в лунном сиянии снежными пространствами проступают силуэты домов. В них свет и жизнь. Из ближайшего инспекторского дома долетают детские голоса. Рождественская песня. Сегодня сочельник.
Крейбель стоит на табуретке и смотрит сквозь решетку в ночь. Ильза… Она сидит сейчас дома и думает о нем, как он думает о ней… Она рано уложит спать малютку Фрица. Быть может, в то время, как другие ноют и веселятся в кругу семьи, она бродит по пустынным и темным улицам… А может быть, одиноко лежит в своей постели и так же, как он, не может уснуть…
— О вас тоже не забыли! — сказал несколько часов назад дежурный надзиратель. Кальфактор протянул Крейбелю кусочек копченой колбасы, немного искусственного меда и шесть коричневых печений.
— Это от лагерной администрации.
Крейбель молча взял угощение.
— Ты, сволочь, может, соизволишь поблагодарить?! — взбеленился Нусбек.
Сочельник…
Каким-то будет он на следующий год?
Когда-нибудь мы, те, которых истязают сегодня, уничтожим этот лицемерный обман, а завтра…
Слышны приближающиеся шаги. Крейбель соскакивает с табуретки, отставляет ее в сторону и забирается на соломенный тюфяк под одеяло.
Караульный Оттен зажигает во всех одиночках свет и оставляет его на всю ночь. Так часовому виднее, если кто будет стоять у окошка.
До утра не спит Крейбель в освещенной камере. И не один он. За красными стенами тюрьмы лежат без сна сотни заключенных.
На следующий день караульный Нусбек раздает почту. Он заходит к Крейбелю и нарочито громко говорит:
— Вот твои письма!
Два письма и одна открытка. Какая радость! Уж сколько дней, как он не получал писем от жены и матери!.. Торопливо вынимает он исписанные листки из уже вскрытых цензурой конвертов.
Из соседней камеры стучат в дверь.
Боже мой! Неужели Ханзен и сегодня не получил письма?
У Крейбеля на секунду опускаются руки. Как это может быть? Бедный малый!..
Затаив дыханье, прислушивается Ханзен, как караульный проходит мимо его камеры. Он уже услыхал, что тот разносит почту. Им овладевает непомерный страх. Караульный ошибается. Сегодня он непременно получит письма. Иначе быть не может! И несмотря на запрет, бросается к двери и колотит в нее кулаками.
Никто не слышит, никто не идет.
Что-то сжимает ему горло, юношу охватывает чувство безграничного одиночества и беспомощности…
Что случилось?
Что с матерью? Почему она не пишет?
От страха и разочарования ему становится не по себе.
Снова шаги. Они пробуждают новые надежды. Он прислушивается, затаив дыхание… Да, караульный остановился у его двери. Заключенный замечает, что крышка «глазка» тихонько отодвигается. За ним наблюдают.
В камеру входят Оттен и Нусбек. У Оттена в руке два письма. Ханзен их сразу заметил, и по лицу пробегает счастливая улыбка. Наконец!
— Сколько тебе лет? — спрашивает Нусбек.
— Восемнадцать, господин дежурный.
— И несмотря на это, все еще маменькин сынок?.. Восемнадцать лет — уже взрослый мужчина. А ты, по-видимому, еще настоящий младенец!
Заключенный, не отрываясь, смотрит на руку с письмами.
— Как зовут твою мать?
— Полина, господин дежурный.
— А где живет?
— Хуфнерштрассе, шесть, господин дежурный.
Нусбек рассматривает письма и передает их Оттену.
Тот подзывает:
— Подойди-ка сюда, маменькин любимчик!
Ханзен бросается к нему.
— Подними крышку с клозета!
— Что?!
— Крышку с клозета подними!
Заключенный с невыразимым ужасом в глазах поднимает крышку стульчака.
Оттен рвет письма пополам.
— Господин… господин дежурный… мои письма!
Оттен рвет их на четыре части и внимательно смотрит в потрясенное, искаженное болью лицо. Клочки бумаги падают в клозет.
— Спускай воду!
Юноша стоит неподвижно, глядя поочередно то на эсэсовца, то на изорванные письма в клозете.
— Ну, спускай воду!
Тот не трогается с места.
— Спускай!.. Тяни!..
Оттен кричит и беснуется. А Ханзен, хрупкий, бледный, только пристально смотрит на него.
Тогда Оттен отталкивает его в сторону, сам спускает воду и смотрит, не осталось ли клочка бумаги.
— Ну, теперь можешь хныкать! Пореви немножко, маменькин сынок! — смеется он, захлопывая дверь за собой и Нусбеком.
Крейбель слышит под окном размеренные шаги часового. Слышно, как хрустит под сапогами снег. А внутри, в тюрьме, и за оградой — ни звука. Медленно ползут дни… Их тишина невыносима, мучительна. Хорошо еще, что раз в году бывает рождество.
Он постоянно один в этих четырех стенах, лишенный каких-либо занятий. Но он живет каждым словом, которое проникает в его камеру, каждым доносящимся извне шагом, каждым шорохом.
В эти рождественские праздники жизнь словно угасла. Соседи и те даже не кашлянут. Ни один звук, стук или шорох не пробивается сквозь стены камеры.
А ведь в каждой камере томится человек, товарищ. В каждой камере. В сотнях камер. И для любого из них эти тихие, долгие, одинокие дни кажутся сном. Каждый думает о жене и детях, о родителях и друзьях, о товарищах на свободе…
Крейбель — в который уже раз за эти три рождественских дня — берет свои письма и, скрючившись в углу, у труб, читает:
«Мой дорогой Вальтер!
Вот уже и рождество на пороге, а ты все еще в заключении. Кто бы мог об этом подумать в марте, когда они уводили тебя из дому? Несколько недель назад у нас стали ходить слухи об амнистии, я пошла в ратушу и спросила, не выпустят ли тебя, так как ты был посажен еще социал-демократическим правительством. Чиновник ответил, что комиссия по амнистии рассматривает отдельные случаи. Вчера мне сообщили, что комиссия была у тебя и отклонила твое освобождение. Дорогой Вальтер, я, собственно говоря, ничего другого не ожидала, думаю, что и ты тоже. А все же хорошо было бы, если бы ты снова оказался с нами. Но потерпи, это время еще придет.
У малыша была крапивница. За ним ходила твоя мать, которая так хорошо с ним справляется, и теперь он снова молодцом. Отчаянный, но чудесный мальчик, право. Ты его совсем не узнаешь. Он стал такой большой и крепкий. Все до последнего трачу на него.
Нелегко жить на восемь марок пособия в неделю. Приходится себя во всем урезывать. От радио отказалась. Платить за пользование две марки ежемесячно я не в состоянии.
Дорогой Вальтер, все собирались послать тебе к празднику подарки: мать, Грета, Павел и друзья. Так как я думала, что тебе можно переслать только одну посылку, то решила упаковать в нее все подарки вместе. Несколько дней назад стало известно, что всем заключенным вообще запрещены передачи. Это постановление опубликовано в новом уставе о наказаниях. Не грусти, Вальтер, мы еще все наверстаем…»
Крейбель опускает руку с письмом…
Она бодрее и сильнее, чем он ожидал. А комиссия?.. Комиссия по амнистии? Это жуткое, безмолвное посещение горбуна решило его судьбу? Это была специальная комиссия?.. Ах, боже мой, здесь действительно все возможно… Ведь они не произнесли ни единого слова. Не задали ни одного вопроса. Горбун сказал за дверью: «Нет, этого не надо». И это все…
Крейбель вынимает второе письмо — письмо от матери.
«Мой милый мальчик!
Мне тоже Хочется написать Тебе несколько строк, так как я думаю, что тебе будет Приятно получить письмо от своей Матери, хотя у меня почти нет никаких новостей.
Сначала малыш был Болен, и Очень болен. Я совсем из сил выбилась, и крошке Здорово досталось, но он Чудесный мальчик. Представь себе: сыпь по Всему телу, около Сорока гнойных нарывов, Десять доктору пришлось прорезать, крику при этом было — ты себе даже представить не можешь, я должна была его держать, это было Ужасно, зато ему теперь Легче, сегодня он уже опять Поет.