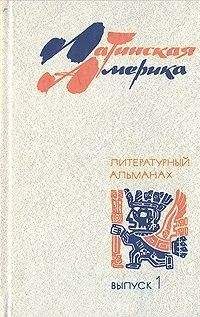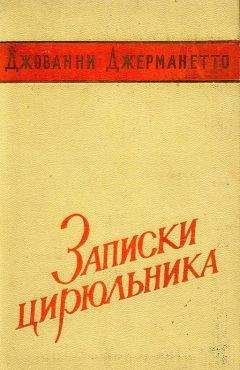— В таком случае он, конечно, и другим рассказывал?
— Еще бы!
— Не очень хорошо его характеризует, — лаконически замечает Ридель.
— Нехорошо характеризует? Сволочь, отъявленный мерзавец! — шипит Дузеншен и, засунув руки в карманы, снова принимается бегать по комнате.
— Позвони-ка! Пусть Мейзель придет!
Спустя несколько минут в комнату входит Мейзель. Он растерянно озирается по сторонам расширенными от волнения глазами. Его землистое лицо отливает зеленью. Губы судорожно сжаты.
Прежде чем задать вопрос, Дузеншен долго смотрит на Мейзеля и барабанит пальцами по крышке письменного стола. Потом, покачав головой, резко поворачивается к нему спиной.
Мейзель чувствует на себе взгляд своих врагов — Хармса и Риделя, но сам смотрит мимо.
— …О ком угодно!.. Если бы мне рассказали это о ком-нибудь другом, меня бы это не так поразило. Но ты… Именно ты!.. Самый сознательный, до мелочей исполнительный. Скажи мне, друг, как это Ленцер подбил тебя на это?
Дузеншен стоит вплотную перед Мейзелем, который отвечает на его взгляд тусклым, беспокойным взором.
— Я знал о том, что происходит, но прямого участия никогда не принимал.
Дузеншен прислушивается.
— Ты никогда не принимал участия?
— Нет.
— Не принимал заказов? Не проносил их контрабандой в лагерь? Не распределял в общих камерах?
— Нет.
— Ты только знал обо всем этом?
— Да.
— И не хотел выдать Ленцера?
— Да.
Голос Дузеншена приобретает другой оттенок. Он поворачивается к Хармсу и Риделю:
— Значит, дело принимает совсем другой вид.
Ридель изумленно смотрит на Дузеншена, потом переводит взгляд на стоящего у двери Мейзеля. На мгновение их глаза встречаются. Во взгляде Мейзеля сквозит робкая мольба, но Риделя она не трогает. Он вспоминает инвалида войны, Кольтвица и множество других беззащитных заключенных, которых истязал стоящий сейчас перед ним с таким сокрушенным видом его непосредственный начальник, Ридель не чувствует к Мейзелю никакой жалости и не думает его щадить.
— Мейзель не только знал о махинациях Ленцера, — твердо и уверенно заявляет он, — но даже получал половину прибыли.
Дузеншен сражен. Он смотрит на Мейзеля.
— Это верно?
— Да, — тихо отвечает тот дрожащими губами.
— Ах, подлец! — шипит Дузеншен в бессильной злобе. — Устроить мне такую пакость!
Он подходит к окну, судорожно хватается за оконную раму и прижимается к ней лицом.
Ридель и Хармс пристально смотрят на Мейзеля. Тот стоит с поникшей головой, закрыв глаза.
Внезапно, не меняя своей позы, Дузеншен кричит:
— Увести его!
Ридель поднимается и выходит из комнаты. Затем возвращается с конвойными из комендатуры.
— Ну, пошли!
Мейзель вздрагивает, бросает на Риделя убийственный взгляд и выходит впереди конвойных из комнаты.
Дузеншен хочет доложить о случившемся коменданту, но Эллерхузен уже обо всем подробно осведомлен.
— У нас дела идут все хуже.
Дузеншен отвечает:
— Такие вещи надо беспощадно искоренять.
— Ведь Мейзель пользовался, кажется, вашим особым доверием?
Дузеншен ожидал этого вопроса. Он был неизбежен. И все же холодное бешенство сдавило ему горло. Он смотрит коменданту прямо в глаза, но ничего не говорит.
Комендант Эллерхузен понял взгляд штурмфюрера, и вдруг ему стало жаль этого скомпрометированного своими лучшими друзьями подчиненного. И он говорит примирительным тоном:
— Штурмфюрер! Вы плохой знаток людей. Но постарайтесь преодолеть разочарование. Оно дает хороший урок, оно закаляет и учит презирать людей.
В лагере быстро распространился слух о том, что во время новогоднего приема у наместника Кауфмана подвыпивший Хармс бросил Мейзелю обвинение в мошенничестве, продажности и преступлениях по должности, и о том, что Мейзель уже арестован.
Все без исключения заключенные радуются. Слишком велика ненависть к этому извергу. Никто не заступается за него, несмотря на то что его арестовали за спекулятивные махинации, которые им же самим шли на пользу. А Кессельклейн с воодушевлением держит длинную речь:
— Эту сволочь я, как никого, терпеть не мог. Это был не надзиратель, а избиватель. Но они еще все сломают себе хребет. Когда мы восстанем — ни один из этой банды не уцелеет. А пока нам предстоят дела почище: вот увидите. Еще многие из этих бесстрашных, безупречных рыцарей отправятся в карцер.
Обершарфюрера отделения Хармса произвели в обертруппфюреры. Риделя — в труппфюреры. Дузеншен взял отпуск. Его замещает Хармс.
Студент-недоучка Хармс — искусный тактик, он заметно приближается к своей цели. Он доверенное лицо коменданта. Среди эсэсовцев ходят слухи, будто Дузеншен больше не вернется из отпуска и его место займет Хармс.
Январь проходит спокойно. По ночам уже не слышно криков истязаемых. Хармс любит бесшумную работу. Заключенных уже не бьют тут же, в одиночках. Порка происходит теперь только в подвале, за двойной дверью, сквозь которую не пробиваются ни удары плетей, ни даже крики.
Среди заключенных общих камер отыскали маляров. Их разбили на бригады, и теперь они красят коридоры и камеры. Другие рабочие команды убирают все тюремное здание, вооружившись вениками и шлангами. С раннего утра до позднего вечера во всех отделениях кипит работа.
Не из желания облегчить судьбу заключенных, а из любви к порядку Хармс вводит правила, идущие им на пользу. Аккуратно раздаются письма. Устанавливаются определенные часы для посещений. Равномерно распределяется свободное время. В определенные числа меняется постельное белье. Раз в месяц заключенных водят в баню.
Хармс любит приходить в общие камеры неожиданно. Заключенные должны тогда показывать ему свои руки и, сняв сапоги, ноги. Кроме того, Хармс следит за чистотой обеденной посуды и за порядком в шкафчиках.
В одиночки не заходит. Он знает, что у одиночников зачастую нет посуды и они едят из умывальных мисок. У них обыкновенно нет ни гребешка, ни зеркала. Они по нескольку месяцев не бывают в бане, не бреются. Но он приказывает чаще проветривать камеры, чтобы не было зловония.
Однажды, в конце января, Торстену велят немедленно собрать вещи. Дежурный сообщает ему, что его переводят в подследственную тюрьму.
У Торстена захватывает дух от радостного известия. Пережить заключение в концентрационном лагере — много значит. Все предстоящее будет значительно легче.
Он быстро переодевается, сваливает в кучу все казенные вещи и, развернув одеяло, бросает их туда.
В своем собственном платье Торстен сразу чувствует себя человеком. Затем прощается с одиночкой, в которой прожил столько месяцев. Еще раз окидывает взглядом щели на потолке, неровные мазки краски на стенах, пятна ржавчины на двери. Сколько раз в эти долгие недели одиночества его взгляд останавливался на всем этом!
Он смотрит в окно и прощается со своим буком, растопырившим голые окоченелые ветви. Часами, бывало, смотрел он, погруженный в мечты, на его красочное осеннее убранство.
Крейбель… Быть может, его теперь тоже переведут? Ведь скоро год, как он в лагере… Свидятся ли они когда-нибудь? Если вспомнить, то тогда, в карцере, в мрачной каменной могиле, они жили наиболее напряженной жизнью. Они заставляли говорить немые стены.
Входит дежурный эсэсовец.
— Вы готовы?
— Так точно, господин: дежурный.
— Тогда выходите!
В караульной Торстена принимает ординарец из комендатуры. Они идут через ряд тюремных дворов в средний корпус.
В камере хранения, находящейся в подвале под комендатурой, Торстену приходится ждать. В прихожей, где выдают тюремную одежду, много вновь прибывших. Он очень удивлен, что среди них есть молодые люди в высоких сапогах и коричневых замшевых брюках. Одного из них, в полной форме штурмовика, Торстен принял было за караульного. Но ему тоже дают синюю тюремную одежду — значит, он арестант.
По лестнице спускается Тейч, — ему кажется, что выдача одежды идет слишком медленно. Он замечает штурмовика, стоящего перед своим узелком, и подходит к нему.
— Ты штурмовик?
— Так точно!
— А за что тебя сюда отправили?
— На меня донесли… Сболтнул лишнее.
— Что ж ты говорил?
— Против Кауфмана и… и… тех, что повыше.
— Нечего сказать, хорош штурмовик!.. А ты давно в отряде?
— С тысяча девятьсот двадцать девятого.
Тейч смотрит на высокие сапоги и коричневые брюки других новичков.
— Ты кто такой? — спрашивает он у крепкого, ладного парня, по-видимому, спортсмена.
— Мебельщик.
— Штурмовик?
— Так точно!
— А ты что выкинул?
— Я агитировал у нас на предприятии за забастовку.
— Из коммунистов, что ли?