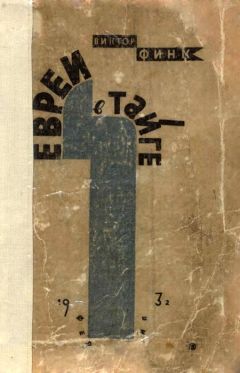— А вы-то хоть интересовались, почему едут евреи в Биробиджан? — спросил он в заключение.
Этот вопрос — самый основной из всех, интересующих меня. С этим вопросом я обращаюсь чуть ли не к каждому переселенцу. Верно: очень многие говорят о желании строить национальное государство. Но, кто их знает, вполне ли они искренни с посторонним человеком, да к тому же с представителем печати? Уж не усердствуют ли они по официальной линии?
— А вы не углубляли беседу?
— Углублял. Но, откровенно говоря, много из этих людей не выжмешь. Я спросил одного колониста, почему он не стал заниматься земледелием у себя на Украине, и он ответил: «У меня на Украине во время погромов вырезали двадцать человек родных. Мне стало тесно среди могил». Это сказал в Бирефельде высокий еврей лет сорока.
— Ну, что ж! — заметил агроном. — Эту трагедию пережили десятки тысяч евреев. Она родит в них желание жить на земле, которая не была бы залита еврейской кровью. Конечно, сами по себе эти слова — литература. Но, когда является реальная возможность начать строить какую-то жизнь наново и в, другом месте, то люди за эту возможность хватаются.
Нашу беседу пришлось приостановить: агронома заметили из тракторной колонны и стали звать к себе. Мы свернули на целину, и минуты через три агроном был занят совершенно другими делами.
А еще через полчаса мы снова были одни в поле и направлялись к следующему тракторному пункту.
Агроном неожиданно вернулся к прерванному разговору.
— Знаете, — сказал он, — что-то сделалось с евреями! В этом году биробиджанские призывники пошли в армию, несмотря на то, что имели отсрочки как переселенцы. Думаете, пошли комсомольцы? Нет, беспартийные. Почему? В чем дело? Что за спешка такая? Почему, например, Шварцман из Бирефельда сам попросился во флот? Это, ведь, на пять лет! Когда это в России еврея-призывника тянуло на какие-то там бом-брам-стеньги? К тому же на пять лет? Можете сказать?
Не дожидаясь моего ответа, он сам констатировал:
— Не можете сказать.
Этот Шварцман, о котором говорил агроном, мне известен. Я бывал у него в Бирефельде. На столике под зеркалом лежал набор новенького парикмахерского инструмента: это дома, провожая его в далекий и безвестный край, товарищи подарили ему из последних грошей:
— На, мол, прокормишься!.. А в случае чего, продашь, домой доедешь!..
Шварцман был дома парикмахером, а здесь его инструмент стоит нетронутый. Здесь бывший парикмахер работал на механической жатке. Она, правда, построена по принципу парикмахерской машинки, но номер не тот. Номер больше.
Я сказал об этом агроному, и он заметил:
— Ну, вот видите! Как по писаному!.. Даже неловко от такой азбучной наглядности.
— То-есть!..
— Да вот, — переменились орудия труда и переменился человек. Как вы выражаетесь, — просто номер не тот! Человек расправился. Он стал во столько же раз больше, во сколько жатка больше парикмахерской машинки.
Воздух был в поле чистый, небо было ясное, и в этот день я агронома этого участкового полюбил. Я полюбил его за то, что он настоящий, хороший агроном: он любит людей. Он так хорошо говорил о перерождающем влиянии труда и государства, что я понял: он хороший агроном, он знает, как пахать поле, и он чувствует человека. По-моему, кто не чувствует живого человека, не умеет толком смазать и колесо у телеги. Это мое мнение.
— Понимаете, — говорил, например, агроном, — когда Шварцманы были прикреплены к парикмахерской машинке, они терпеливо делали свою жизнь: они уклонялись от военной службы, плодились и нищенствовали. Теперь Шварцману развязали руки. Его выбор свободен. Тогда он выбирает колхозную жатку и службу на бушприте. Очень просто. А потребность в своей национальной территории — это что такое? Она — производное этого громадного внутреннего перерождения. Вы здесь на любом маленьком Шварцмане можете видеть всю картину духовного развития советского еврея за годы революции: от парикмахера до колхозника-тракториста, и от борьбы с околодочным за правожительство до борьбы с тайгой за свой, за социалистический еврейский Биробиджан. Поняли?
Все это было понятно, но почему все-таки Шварцман и его товарищи пошли в армию раньше срока? Ведь это значило, покинуть свой Биробиджан!?
— Не покинули они, не бойтесь! — возразил агроном. — Каждый уехал, в основном обеспечив свое хозяйство и семью. Призывники отказались от отсрочки и поторопились в армию, чтобы стать еще тесней и ближе к государству. Ведь, можно сказать, государство дало им жизнь.
Признаюсь честно, я не хотел сдаваться. Я на помнил про вопли Певчика, про его восклицания: «Я не приехал сюда мучиться». Эти слова на каждом шагу можно услышать в Биробиджане. Они вошли здесь в поговорку.
— Но поговорки надо понимать! — не без раздражения отозвался агроном. — Эта поговорка значит, что молодое еврейство идет здесь на тяжелый труд, на отчаянную борьбу с природой, на испытания, на лишения, на настоящие мучения. Но оно хочет, чтобы все это было с целью. «Мучиться» — значит теперь в Биробиджане нищенствовать над иглой, шилом, помазком… Не хотят этого новые молодые евреи, и кончено. Желаете факты?
— Вы знаете, что в Биробиджане открылось несколько еврейских производственных артелей. Вот открылся, например, кузнечно-обозный завод, открылась мебельная фабрика, чемоданная фабрика. В Биракане организовалась крупная артель по обжигу извести. Есть среди прочих также артель портных и артель чулочников — старые еврейские профессии, опора местечка. Так вот, в колхозах и совхозах, т. е. за трактором, за плугом, с топором, с лопатой работают несколько тысяч человек; в артелях тяжелого труда — несколько сот. Людей нехватает! А артель портных и артель чулочников насчитывает, знаете, сколько?
— Ну?!
— По пять человек каждая! Не идут туда евреи! Почему? Можете сказать? Не можете сказать…
Навстречу показалась в облаке пыли таратайка.
Щуплый еврей в кепке, нахлобученной на самый нос, лениво подгонял каурую кобылку, а с таратайки доносились визг, хохот, крики: она была до отказу набита молодыми парнями. Сидеть им было неудобно — в воздух то-и-дело взлетали ноги в сапогах, — но все были веселы. Поравнявшись с таратайкой, мы с агрономом оба с удивлением заметили, что пассажиры были не парни, а девчата, к тому же явно еврейские девчата.
— Да это бабы! — со смехом воскликнул я.
Но с таратайки мне крикнула какая-то краснощекая девица в гимнастерке и фуражке:
— Нынче баб нет! Нынче бабы сваи забивают!
— Знаете, кто это? — спросил агроном. — Курсистки! Девушки, которые учатся на курсах. А на каких курсах, знаете? На плотничьих курсах. Они обтесывают кедры и складывают дома, в которых строится новая еврейская жизнь. Почему они не идут в чулочницы? Можете сказать?
— В тайге на пасеке, вы видели, живет одинокая девушка из Умани. Она и старик — сторож. К ней на пасеку медведи лезут, как к себе домой. А она ничего, живет. Она — пчеловод. Когда это еврейские девушки привыкли жить в одиночку в тайге, как в скиту? Почему она не пошла в чулочную артель? А? Можете сказать?
Он по обыкновению сам себе за меня и ответил: «не можете сказать».
Он был прав. Что мог бы я сказать? Какими простыми словами объяснить все эти дела, которые видишь в Биробиджане? Что сделалось с евреями? Кто сделал это с ними?
Они лежали в пыли и прахе, ничтожные социально и ничтожные физически. И вот пришла година ломки и крушений, и их жизнь поломалась и крушилась; пришло дыхание огня и спалило их; пришел вихрь и кружил их.
Революция пришла. Она сказала им:
— Идите, трудитесь и живите!
И вот они встали. Они выпрямили спины и покинули гноища отцов. Они трудятся и живут. Они стали новыми людьми.
Я приехал в Бирефельд на несколько часов, а вышло так, что пришлось заночевать. Знакомый тракторист повел меня на ночлег к своим землякам, переселенцам из Полтавской губернии. Хозяева были гостеприимны, но устроиться было пока невозможно: в доме занимался кружок молодежи — фельдшерица давала урок гигиены. Я решил пройтись немного по селу, зайти к доктору. Вернулся через час. Во дворе, у ворот встретил хозяйку.
— Не везет вам! — сказала она. — Опять спать нельзя. Урок кончился, но сегодня наш молодняк загулял.
Из дома доносилась гармонь. Я вошел. Было тесно и душно, баянист захлебывался и заливался, закатив глаза, и грохотали сапоги об пол. Это танцовала аудитория фельдшерицы. Играл в углу долговязый парень в ухатой меховой шапке. Ухи были приспущены, шапка заломлена набекрень. У парня была цыгарка в уголке рта. Лицо было у него добродушное; оно взволнованно застыло, а глаза были неподвижно устремлены вперед.
Какие видения носились перед ними, покуда пальцы ловко перебирали клавиши?
Убогое детство в местечке? Родители, замученные нищетой? Юность, окровавленная погромами? Гражданская война — грохочущий предвестник другой жизни? Или непостижимое и загадочное будущее в тайге, среди сопок Хингана?