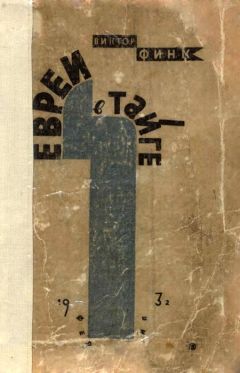— Не везет вам! — сказала она. — Опять спать нельзя. Урок кончился, но сегодня наш молодняк загулял.
Из дома доносилась гармонь. Я вошел. Было тесно и душно, баянист захлебывался и заливался, закатив глаза, и грохотали сапоги об пол. Это танцовала аудитория фельдшерицы. Играл в углу долговязый парень в ухатой меховой шапке. Ухи были приспущены, шапка заломлена набекрень. У парня была цыгарка в уголке рта. Лицо было у него добродушное; оно взволнованно застыло, а глаза были неподвижно устремлены вперед.
Какие видения носились перед ними, покуда пальцы ловко перебирали клавиши?
Убогое детство в местечке? Родители, замученные нищетой? Юность, окровавленная погромами? Гражданская война — грохочущий предвестник другой жизни? Или непостижимое и загадочное будущее в тайге, среди сопок Хингана?
Где-то я видел гармониста с такими глазами…
Это был солдат, самарский мужик. Немцы взяли его в плен. Он бежал от немцев в Бельгию и через фронт пробрался во Францию. Мы вместе возвращались во время войны в Россию. Нас было четыреста солдат. Мы носились двадцать пять суток по морям. В Ледовитом океане мы попали в белые ночи и проводили почти круглые сутки на палубе. Самарец играл на гармонии, а мы плясали. Нас трепали жестокие бури, мы голодали и проигрывали друг другу в карты еду, вино и табак и не знали, доплывем ли до земли, или нас потопит немецкая подводная лодка. Но люди плясали, громко топая каблуками, и не думали. Один только самарец сидел на снарядном ящике с неподвижными глазами. Пальцы ловко перебирали клавиши гармошки, а на лице застыло выражение добродушия, неподвижные глаза смотрели куда-то далеко. Они точно вобрали в себя всю тревогу за родной далекий дом, за нас, за войну, за весь ужас жизни. Никто не догадывался об этой его тревоге, потому что лицо было тоже вот так смело и добродушно, а руки делали свое дело: они играли.
Парень в меховой шапке напряженно играл старый вальс. Рядом с ним сидел паренек помоложе — белокурый курносый казак. Он ловко выстукивал двумя деревянными ложками по колену мелодию, которую еврей играл на гармонии, и подпевал себе вполголоса:
Зачем же ты топчешь ногами
Невинную душу мою?
Да будь же ты проклят богами
За злую измену твою!..
Плясали, кто как умел. Здоровенный увалень, тракторист-еврей с Украины, ввалился в болотных сапогах. Он вышел на середину комнаты и грузно остановился. Утвердившись на левой ноге, он выждал такт и стал пристукивать правой. Он делал это, чуть-чуть приседая, подпевая и прищелкивая пальцами. Ни для мелодии вальса, ни для темпа это все не годилось, но парень был доволен, и остальные были довольны. Все кричали: «Браво, Меер!»
Когда Меер отошел в сторону, обливаясь потом, появился другой тракторист. Мы с ним провели только что трое суток в пути. На тракторе он не имел человеческого образа: сапоги были в грязи выше колен, рабочий балахон был пропитан нефтью и смазочным маслом, лицо было совершенно черное, как уголь, руки были по локоть в грязи.
Я его не узнал.
Он явился на танцульку тщательно умытый и выбритый, в белом воротнике, в галстуке, в новом костюме. Желтые ботинки тоже сверкали новизной. Он жеманно подхватил какую-то девицу и стал кружить ее в вальсе.
— Такой аккуратный парень, а между прочим жена его спокинула! — сказал мне еврей, сидевший рядом со мной.
— Почему?
— А кто их знает? Тут целое происшествие…
Это была история, какие часто случаются в новых странах. Тракторист познакомился с красивой переселенкой из Умани. Женщин здесь мало. Тракторист женился на третий день. Но на шестой день ее отбил другой тракторист. Чем он был лучше первого, неизвестно. Но он был осторожней: чтоб избежать дальнейших увлечений молодой особы трактористами, он увез ее из Биробиджана.
— Они уехали на Сахалин. Там много теперь евреев работает на рыбалках и на нефти.
Со двора доносился ветер, шел дождь, а в доме гремела гармонь, стукали ложки, и тракторист кружил в наивном вальсе свою тоску по уманской евреечке, которая бросила его здесь одного в тайге, а сама умчалась на сахалинские рыбалки.
— Перемени, Мишка! Перемени! Вдарь веселую, Мишка! — нетерпеливо приставала публика к гармонисту.
Но он, как на зло, играл одни только вальсы.
Он сыграл «Спекулянтку». Ложечник подпевал, мотая головой и вытягивая шею на высоких нотах:
Твоя мама спикулянка,
Пироги пичоть…
Длинный, непохожий на еврея юноша в белой рубашке, в черных брюках и с таежным ножом на боку кружил приземистую и полногрудую еврейку с наивными и немного испуганными глазами.
— Это немец! — пояснил мне все тот же мой сосед. — Немец-колонист. Их тут два брата — Фриц и Эрнст, и они уже двух евреек просватали. Это Фриц.
История этого сватовства была не совсем обычна.
Некий немец, сын колониста, женился на еврейке-портнихе. Жили где-то в Белоруссии. Дела шли скверно.
— Сами знаете, какое теперь шитье, когда все покупают готовое платье.
Еврейка пошла в Озет и исхлопотала наряд на землю: муж-крестьянин видел в этом способ поправить дела и перестроить жизнь. Получили наряд на Биробиджан.
— Биробиджан? — они себе подумали. — Это далеко. Нехай папаша едет посмотреть. Вот это сидит там сбоку ихний папаша, видите?
Он указал мне в углу на коренастого бритоголового человека лет пятидесяти, который дымил трубкой и беседовал с двумя пожилыми евреями.
— Это ихний папаша. Он приехал сюда за ходока. А дальше было, как в библии. Вы знаете, как было в библии? «И посмотрел папаша вокруг и увидел, что хорошо, и сказал — хорошо».
Сказав библейские слова, папаша дал знать своему сыну, чтобы он приезжал поскорей и захватил уже заодно мамашу и сестер и братьев. Эта еврейско-немецкая семья состоит из четырнадцати душ.
— Так слушайте, что дальше было! Пока он ждал семью, этот папаша, так он подружился здесь с одним евреем. Вот он сидит там, видите?
В углу сидел обыкновенный еврейский парень в рыжей куртке. Только что он танцовал, а теперь отдыхал.
— Так они подружились, — продолжал мой сосед, — и пошли косить сено. Месяц косили и накосили две тысячи семьсот пятьдесят пудов. Вот какие здесь сенокосы! А потом приехало семейство, так папаша послал сыновей и опять того еврейчика, и они за неделю взяли еще тысячу пудов. Теперь папаша говорит, что надо взять еще тысячу, так он будет строить дом без всякого кредита.
Папаша, очевидно, почувствовал, что мы говорим о нем. Он пересел к нам. Я спросил его, как он думает делить барыши со своим компаньоном-евреем.
— А он у меня дочку берет, — ответил папаша, — и переходит в наш дом жить.
Папаша помолчал, закрутил ус и, мотая головой, прибавил:
— Ох, и большой дом надо строить! Подумайте только: того еврея беру за сына. Вторая дочка тоже за еврея выходит, да два парня моих тут закрутились с двумя евреечками — Фриц и Эрнст. На той неделе, боюсь, придется четыре свадьбы справлять. Эх!..
Папаша крякнул: многое в его жизни приняло неожиданный оборот.
А Фриц продолжал танцовать чинно, правильно, сохраняя каменное лицо. Еврейка, откинув немного назад голову, давала себя кружить и лишь изредка подымала на своего кавалера испуганные и влюбленные глаза.
Я почему-то принимал ее за хозяйскую дочь, Я ошибался. Она — соседка, подруга хозяйской дочери.
— А хозяйская дочка вон та — высокая, в сапогах, — сказал мой сосед.
Высокую девушку в сапогах я видел днем во дворе. Я думал, она здесь батрачка.
— Она даже не хозяйская дочка, а сама хозяйка. А та старуха, что ее мать, то она не хозяйка, а хозяйкина мать.
Сосед указал на двух еврейских парней, сидевших в углу. Я их видел уже. Днем на селе они возили сено. Я принял их за казаков: они носят на поясе за спиной, под левой рукой, большие ножи в самодельных деревянных ножнах. Без этого в тайге трудно. Казаки все носят такие ножи.
— Эти парни — братья. Девушка в высоких сапогах — их сестра. Они — из колонистов прошлого года.
Эти два парня и их сестра, — ей лет семнадцать-восемнадцать, перенесли наводнение и сожгли туши своих коней. Зимой они работали в тайге на лесозаготовках. Они заработали на сене. Они голодали и выворачивались наизнанку, но к концу лета они поставили дом. Когда дом был построен, они выписали из местечка родителей. Теперь по домашнему хозяйству работают старики, а они трое продолжают спорить с тайгой и с болотом.
Я снова присмотрелся к ним. Да, пожалуй! Если бы стереть с лица эту красноту, которую навели степные ветры; если бы немного смягчить лесную суровость, иногда мелькающую во взгляде; немного изогнуть спину; если бы вместо кнута дать ему зонтик, а вместо кубанки напялить широкополый котелок, — да, пожалуй, старший был бы похож на местечкового еврея.