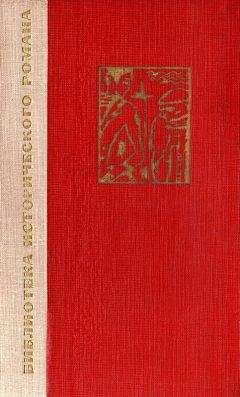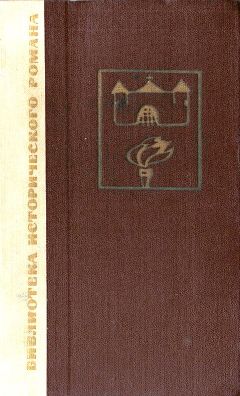Некоторые мужчины, сидя на корточках, дремали возле исповедальни. Один старик клевал носом, и старуха решила, что он бормочет молитвы; она принялась быстро перебирать пальцами четки — самый лучший способ почтить волю небес — и вскоре последовала его примеру.
Ибарра стоял в углу; Мария-Клара преклонила колени у главного алтаря, где служки по распоряжению галантного священника очистили для нее место. Капитан Тьяго во фраке сидел на одной из скамей, предназначенных для власть имущих, и дети, принимавшие его за второго префекта, старались держаться от него на расстоянии.
Наконец явился сеньор алькальд со своими приближенными. Он вышел из ризницы и уселся в одно из роскошных кресел, стоявших на ковре. Алькальд был в парадной форме с лентой ордена Карла III и четырьмя пли пятью другими орденами. Люди не узнали его.
— Глянь-ка! — воскликнул какой-то крестьянин. — Жандарм разрядился, как комедиант!
— Дурень ты, — ответил ему сосед, толкая локтем в бок. — Это же принц Вильярдо, которого мы видели вчера в театре!
Так алькальд поднялся в глазах народа, превратившись в сказочного принца, победителя великанов.
Началась месса. Те, кто сидел, встали, а те кто спал, проснулись от звона колоколов и звучных голосов певчих. Суровое лицо отца Сальви сияло от удовольствия, ибо не кто-нибудь, а двое монахов-августинцев прислуживали ему в качестве дьякона и иподьякона. Каждый из них, когда наступал его черед, пел хорошо, в меру гнусавя и в меру невнятно произнося слова, но зато голос самого священника слегка дрожал, нередко даже срывался, к великому удивлению его паствы. И тем не менее держался он изящно, с достоинством, произносил «господь с вами» благоговейно склоняя голову набок и вознося очи горе. Глядя, как он вдыхает дым кадильниц, можно было поверить Галену[112], утверждавшему, что дым, входя в ноздри проникает сквозь особые отверстия прямо в мозг, ибо священник вдруг выпрямлялся, откидывал голову назад и направлялся к середине алтаря так важно и торжественно, что капитану Тьяго он показался гораздо более величественным, чем комедиант-китаец, который изображал накануне императора, облачившись для этого в роскошную мантию с лентами на спине, ярко размалевав лицо, приклеив бороду из конского волоса и надев туфли на толстой подошве.
«Что и говорить, — думал капитан Тьяго, — в одном нашем священнике больше величавости, чем во всех императорах».
Наконец настал долгожданный миг — все приготовились слушать отца Дамасо. Трое священнослужителей уселись в кресла и застыли в монументальных позах, как написал бы почтенный корреспондент. Алькальд и другие знатные особы с жезлами и тростями последовали их примеру. Музыка смолкла.
Внезапный переход от шума к тишине разбудил старую сестру Путэ, которая уже похрапывала, благо музыка гремела вовсю. Подобно Сехизмундо[113] или повару из сказки о спящей красавице, первое, что она сделала, проснувшись, это наградила подзатыльником внучку, которая тоже уснула. Та запищала, но тут же утешилась при виде женщины, исступленно и самозабвенно бившей себя в грудь.
Каждый старался устроиться поудобнее; те, кому не хватило скамеек, опускались на корточки; женщины усаживались на полу, поджав под себя ноги.
Отец Дамасо прошествовал сквозь толпу. Впереди него двигались два причетника, а сзади шел еще один монах, несший толстую книгу. Поднимаясь по винтовой лестнице, отец Дамасо скрылся из виду, но вскоре снова показалась его круглая голова, затем жирная шея, за которой незамедлительно вынырнуло и туловище. Слегка откашлявшись, он по-хозяйски огляделся, заметил Ибарру и многозначительно подмигнул ему — видимо давая понять, что в своих молитвах не забудет юношу. Затем он бросил довольный взгляд на отца Сибилу и другой, презрительный, на отца Мартина, читавшего проповедь накануне. Закончив обзор, он украдкой обернулся и шепнул своему помощнику: «Внимание, брат мой!» Тот открыл толстую книгу.
Но проповедь заслуживает отдельной главы. Один молодой человек, изучавший в то время стенографию и преклонявшийся перед великими ораторами, записал ее. Благодаря этому мы можем познакомить читателя с образцом церковного красноречия, процветавшего в тех краях.
Отец Дамасо начал медленно, вполголоса:
— Et spiritum tuum bonum dedisti, qui doceret eos, et manna tuum non prohibuisti ab ore eorum, et aquam dedisti eis in siti! (И ты даровал им свой дух, дабы наставить их, и манну твою не отвел от уст их, и воду дал им, дабы утолить жажду их!) Слова эти вложил господь в уста Ездры; книга вторая, глава девятая, стих двадцатый.
Отец Сибила с удивлением взглянул на проповедника; отец Мануэль-Мартин побледнел и проглотил слюну: начало было куда лучше, чем у него.
То ли отец Дамасо заметил это, то ли еще не прочистил горло, но он несколько раз кашлянул, положив руки на край кафедры. Над его головой парил свежевыкрашенный святой дух: беленький, чистенький, с розовыми лапками и клювом.
— Глубокоуважаемый сеньор алькальд, достопочтенные служители церкви, христиане, братья во Христе!
Здесь отец Дамасо сделал многозначительную паузу, снова обвел взором присутствующих и, очевидно, остался доволен всеобщим вниманием и сосредоточенностью.
Первая часть проповеди должна была быть произнесена на испанском языке, а вторая — на тагальском.
После вступления и последовавшей за ним паузы отец Дамасо величественным жестом простер правую руку к алтарю, вперив взор в алькальда; затем, не произнося ни слова, медленно скрестил руки на груди и вдруг запрокинул голову и указал пальцем в сторону главного входа с таким пылом прорезав воздух ладонью, что причетники восприняли его жест как приказ и заперли двери. Альферес с тревогой подумал, оставаться ему или уходить, но тут проповедник заговорил сильным, звучным голосом (его старая экономка, безусловно, знала толк в медицине) — Блеск и сияние источает алтарь, широки церковные врата и да подхватит ветер святое и божественное слово, сошедшее с уст моих! Внемлите же ушами душ и сердец ваших, дабы слова господа не упали на каменистую почву, где их могут склевать птицы адовы; но да прорастут они и принесут плоды, как священное семя в вертограде славного отца нашего святого Франциска! Слушайте, великие грешники, пребывающие в плену черных мавров своей души, плывущие по морям вечного бытия на нечистых судах, груженных плотскими, мирскими помыслами. Слушайте вы, закованные в кандалы стяжательства и похоти, вы, что гребете на галерах князя тьмы! Глядите с почтительным раскаянием на того, кто спасает души от плена диавольского, глядите на этого бесстрашного Гедеона, храброго Давида, победоносного Роланда[114] христианского воинства, на этого небесного жандарма, более отважного, чем все земные жандармы прошлого, и будущего! (Тут альферес нахмурил брови.) Да, сеньор альферес, более храброго и могущественного, ибо, не имея иного оружия, кроме деревянного креста, он бесстрашно побеждает вечного тулисана тьмы и всех прихвостней Люцифера и уничтожил бы всех их навсегда, если бы духи не были бессмертны! Это чудо божественного творения, этот дивный гений, наш благословенный Диего из Алькала, который… да позволят мне сделать сравнение, ибо сравнение помогает постигнуть непостижимое, как говорил один мудрец, — так вот, я говорю, что этот великий святой всего лишь простой солдат, рядовой нашей могучей рати, которой командует с небес блаженный отец наш святой Франциск и к которой я имею честь — по воле господа — принадлежать в качестве капрала или сержанта!..
Неотесанные индейцы, как называет их корреспондент, уловили из этой части лишь слова: «жандарм», «тулисан», «святой Диего» и «святой Франциск», а заметив насупленное лицо альфереса и воинственные жесты проповедника, заключили, что отец Дамасо порицал офицера за то, что тот не выловил тулисанов. Очевидно, думали они, это поручат сделать святому Диего и святому Франциску, и правильно поступят, как то подтверждает картина в манильском монастыре, изображающая святого Франциска, который одним лишь вервием сдерживает нашествие китайцев в первые годы после открытия Филиппин[115]. Набожные прихожане очень обрадовались и возблагодарили бога за подобную помощь, не сомневаясь в том, что когда исчезнут тулисаны, святой Франциск истребит также и жандармов. Посему они с удвоенным вниманием стали слушать отца Дамасо. Тот продолжал:
— Достопочтенные сеньоры! Великие дела суть великие дела, даже рядом с малыми, а малые дела суть малые, даже рядом с великими. Так глаголет история, но история бывает права лишь единожды из ста раз, ибо она — творение человека, а человек может ошибиться. «Errare ost hominum»[116] — как говорил Цицерон, и, как говорят в моей стране: «У кого есть рот, тот всегда соврет». Следовательно, существуют более глубокие истины, которых история не понимает. Истины эти, достопочтеннейшие сеньоры, изрек божественный дух в своей высшей мудрости, которую человеческий разум еще не постиг со времен Сенеки и Аристотеля, сих мудрых священнослужителей древности, вплоть до наших греховных дней, и истины эти заключаются в том, что не всегда малые дела малы, но что они велики не только по сравнению с малым, а и по сравнению с тем величайшим, что существует на земле, в небесах, в воздухе, в облаках, в водах и во вселенной, в жизни и в смерти!