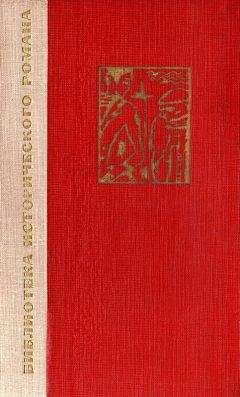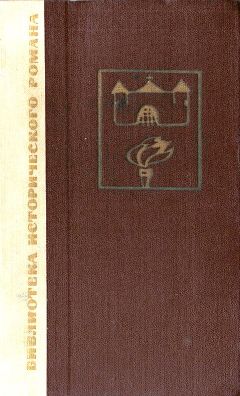И все же эта часть проповеди имела последствия более важные, чем первая, по крайней мере для некоторых из прихожан, как мы увидим позже.
Священник начал ее словами: «Мана капатир кон кристиано»[118] за которыми хлынул поток непереводимых фраз; он говорил о душе, об аде, о «махаль на санто пинтакази»[119], о грешных туземцах и добродетельных отцах францисканцах.
— К черту! — сказал непочтительный манилец своему приятелю. — Для меня это все равно что по-гречески. Я ухожу.
Двери, однако, были заперты, и он вышел через ризницу, к великому возмущению прихожан и проповедника, который побледнел и запнулся на полуслове. Кое-кто замер в ожидании гневной реплики, но отец Дамасо ограничился тем, что проводил дерзкого взглядом, и продолжал проповедь.
Он обрушил проклятия на головы охальников и вероотступников, на весь нынешний греховный век. Видимо, это был его конек: он заговорил вдохновенно, и речь его стала страстной и понятной. Он упоминал о грешниках, которые не исповедуются и умирают в тюрьмах без покаяния, о проклятых семьях, о гордых и спесивых «метисишках», о молодых людях «всезнайках», о «философишках-блохоловах», об «адвокатишках, студентишках». Известный прием тех, кто хочет высмеять своих врагов: к каждому слову прибавляется уничижительный суффикс, — на большее насмешники неспособны и очень рады этой находке.
Ибарра все слышал, он понял намеки. Сохраняя внешнее спокойствие, юноша искал глазами бога и вершителей правосудия, но видел только изображения святых и дремлющего алькальда.
Между тем проповедник распалялся все больше. Он говорил о тех временах, когда всякий филиппинец, встретив священника, снимал шляпу, опускался на одно колено и целовал ему руку.
— Теперь же, — прибавил он, — вы только снимаете салакот или касторовую шляпу, надетую набекрень, чтобы не портить прическу! Вы довольствуетесь словами «добрый день, амонг»[120], а иные спесивые студентишки-недоучки, побывав в Маниле или в Европе, думают, что они вправе пожимать нам руку вместо того, чтобы целовать ее… О, близок Судный день, мир идет к погибели, это пророчили святые! Хлынет дождь огненный, посыплются камни и пепел, чтобы покарать гордыню вашу!
И он призывал народ не подражать подобным «дикарям», а избегать и презирать их, ибо они отлучены от церкви.
— Слушайте, что предписывают церковные соборы! — воскликнул он. — Если тагал встретит на улице священника, он должен нагнуть голову и подставить шею, чтобы амонг мог опереться на него. Если повстречаются священник и тагал верхом на лошадях, то тагалу следует остановиться, почтительно сняв салакот или шляпу. И, наконец, если тагал едет на лошади, а священник идет пешком, всадник должен спешиться и не садиться верхом до тех пор, пока священник не скажет «сулунг!»[121] или не удалится на значительное расстояние. Так решили церковные соборы, и ослушник будет предан анафеме.
— А если едешь верхом на буйволе? — спросил один дотошный крестьянин своего соседа.
— Тогда… проезжай мимо! — ответил сосед; он был казуистом.
Но, несмотря на вопли и отчаянную жестикуляцию проповедника, многие дремали или развлекались как могли, — эти проповеди уже никого не трогали. Напрасно некоторые богомолки принимались вздыхать и всхлипывать, сокрушаясь о нечестивых грешниках, — охотников следовать их примеру не находилось, и они быстро умолкали. Даже у сестры Путэ мысли были заняты отнюдь не проповедью. Какой-то человек, сидевший рядом, заснул и свалился прямо на нее, смяв ей рясу. Добрая старушка сняла туфлю и стала ею колотить невежу, крича:
— Ах ты дикарь, скотина, дьявол, буйвол, собака, будь ты проклят навеки!
Как и следовало ожидать, поднялась суматоха. Проповедник, изумленный разыгравшимся скандалом, умолк, подняв брови. От негодования слова застряли у него в горле, он только мычал, барабаня кулаками по кафедре. Это возымело действие: старуха, не переставая ворчать, бросила туфлю и, осеняя себя крестным знамением, смиренно опустилась на колени.
— А-а-а! А-а-а! — простонал наконец возмущенный священник, скрестив на груди руки и тряся головой. — Разве для этого я читаю вам тут проповедь целое утро, дикари! Здесь, в божьем храме, вы ссоритесь и бранитесь! Бессовестные! А-а-а! Для вас нет ничего святого. Вот он, разврат и распущенность нашего века. Я говорил об этом, а-а-а!
На эту тему он распространялся еще полчаса. Алькальд храпел, Мария-Клара смежила веки, — бедняжка не могла побороть сон, она уже изучила все образа, все статуи, и развлечься больше было нечем. Ибарру теперь не задевали бранные слова и намеки проповедника, он мечтал о домике на вершине горы и видел Марию-Клару в саду. Пусть здесь, в долине, люди поедом едят друг друга в своих жалких селениях!
Отец Сальви дважды звонил в колокольчик, но это было все равно что подбрасывать хворосту в огонь: отец Дамасо отличался упрямством, проповедь продолжалась. Отец Сибила кусал губы и беспрестанно поправлял свои очки из горного хрусталя в золотой оправе. Только отец Мануэль-Мартин слушал проповедь с явным удовольствием — улыбка не сходила с его губ.
Наконец сам бог сказал «хватит»: оратор устал и сошел с кафедры.
Все преклонили колена, чтобы возблагодарить господа бога. Алькальд потер глаза, потянулся, зевнул и откашлялся: «Уф!»
Служба продолжалась.
Когда Бальбино и Чананай запели «Incarnatus»[122] и все снова встали на колени, а священники опустили головы, кто-то прошептал на ухо Ибарре: «Во время церемонии освящения не отходите от отца Сальви, не спускайтесь в ров, не приближайтесь к каменной плите, — не то вы поплатитесь жизнью».
Ибарра обернулся и увидел Элиаса, который, сказав это, скрылся в толпе.
XXXII. Подъемное сооружение
Желтолицый человек сдержал свое слово: то, что он воздвиг над зияющим рвом, чтобы опустить туда огромную глыбу гранита, не было обычной лебедкой или простым треножником с укрепленным на его верхушке блоком, как того желал Ньор Хуан. Там возвышалось нечто более совершенное и величественное: машина и вместе с тем произведение искусства.
Метров на восемь или больше в высоту поднималась хитроумная и сложная постройка: четыре толстых столба, врытых в землю, служили остовом. Столбы соединялись крест-накрест огромными балками, которые были скреплены большими гвоздями, вбитыми лишь наполовину, — возможно, для того чтобы эту временную лебедку было потом легче разрушить. Толстые канаты, протянутые во все стороны, придавали ей прочный и внушительный вид; наверху ее украшали яркие флаги, развевавшиеся вымпелы и гигантские, искусно сплетенные гирлянды из цветов и листьев.
Там, в вышине, под сенью балок, гирлянд и флагов, висела укрепленная на веревках и железных крюках система блоков, — три гигантских колеса. По их блестящим ободам проходили три каната, еще более толстые, чем остальные; они удерживали на весу огромную четырехугольную плиту с углублением в центре. Эту плиту предстояло опустить на другую, уже лежавшую во рву и также имевшую выемку; полученный таким образом небольшой тайник предназначался для хранения исторических документов того времени — газет, рукописей, а также монет, медалей, чтобы они могли дойти до потомков. От верхней системы блоков канаты были протянуты вниз, к большому блоку у подножья сооружения, и намотаны на вал станка, укрепленного врытыми в землю толстыми столбами. Вал приводился в движение с помощью двух рукояток и благодаря системе шестерен увеличивал приложенную силу в сто раз, однако при увеличении подъемной силы уменьшалась скорость подъема.
— Смотрите, — говорил желтолицый человек, крутя ручку, — смотрите, Ньор Хуан, я один, своими силами поднимаю и опускаю эту глыбу… Все так ловко приспособлено, что я могу по желанию регулировать подъем или спуск с точностью до дюйма. Человек, стоящий во рву, сможет без труда подогнать оба камня, а я буду отсюда управлять спуском.
Ньор Хуан с восхищением глядел на мастера, который так странно ухмылялся. Любопытные зрители переговаривались, расхваливая желтолицего.
— Кто вас выучил делать машины? — спросил его Ньор Хуан.
— Мой отец, мой покойный отец! — ответил тот, все так же криво усмехаясь.
— А вашего отца?..
— Дон Сатурнино, дедушка дона Крисостомо.
— Я не знал, что дон Сатурнино…
— О да, он умел многое! Не только здорово сечь своих батраков и выгонять их в поле на солнцепек; он еще умел пробуждать спящих и усыплять бодрствующих. Придет время, и вы увидите, чему обучил меня мой отец, ей-ей, увидите! — И желтолицый засмеялся зловещим смехом.
На столе, покрытом персидским ковром, лежали свинцовый цилиндр и различные предметы, которые должны были быть погребены в этой своеобразной гробнице, там же стояла наготове хрустальная шкатулка с толстыми стенками, в которую намеревались сложить эти исторические реликвии, чтобы сберечь для будущего воспоминания о прошлом. Философ Тасио, бродивший неподалеку, задумчиво шептал: