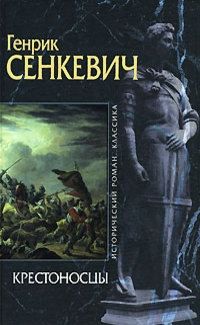«Вот так каша! – подумал Поланецкий. – Сплошные выверты, самообман, дошедший до крайности, ставший привычкой, второй натурой. А уж коли так, прощай, разум, воля к жизни! Душа начнет разлагаться, как труп. И тогда очертя голову только в омут, наподобие хоть Машко, хоть Букацкого. В обоих случаях пойдешь ко дну. Но черт возьми! Неужели же нельзя здоровую и нормальную жизнь вести, если только ты не совсем безголовый. Вот Бигель: живет не тужит. Жена любимая, ребятишки, в которых он души не чает; работает, правда, как вол, но и обществом не пренебрегает – и своей виолончелью: играет на ней при луне, Подняв очи горе. Не скажешь ведь про него, что он завзятый материалист. Нет! В нем как-то уживается и то, и другое. И ему хорошо!»
Расхаживая по комнате, Поланецкий время от времени бросал взгляд на портрет, с которого смотрело на него улыбающееся личико Литки в обрамлении березок. И все сильней овладевала им потребность произвести расчет с самим собой. И он как «коммерсант» стал сличать свой кредит и дебет, что оказалось довольно просто. В графе «приход» когда-то на главном месте значилась привязанность к Литке. И в свое время она была ему так дорога, что, будь ему еще год назад сказано: «Возьми ее и считай своей дочерью», он без колебаний сделал бы это, и у него явилась бы в жизни цель. Теперь это отошло в область воспоминаний, переместясь из графы «счастье» в графу «горе». Итак, что же в итоге? Во-первых, жизнь как таковая, во-вторых, интересы духовные, которые ее как-никак скрашивают, затем надежды на будущее, материальный достаток и, наконец, их торговый дом. Так-то оно так, но чего-то во всем этом недоставало. Успехи их фирмы радовали, но род деятельности сам по себе особой радости не доставлял. Напротив, конторская работа не удовлетворяла, не давая развернуться, надоедала и раздражала. С другой стороны, духовные интересы, работа ума, книги – все это разнообразит жизнь, но не может заполнить ее целиком. «Букацкий, – продолжал Поланецкий рассуждать сам с собой, – ушел в это с головой, только этим и живет, и в результате он конченый человек, опустошенный и больной. Любоваться цветами приятно, но только их ароматом дышать – вредно и опасно». И действительно, не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить, как много вокруг людей полуневменяемых, чьи души отравлены духовным морфием дилетантизма.
Дилетантизм нанес вред и ему – из-за него он стал скептиком. От опасного недуга спасли его только здоровый от природы организм, дававший естественное направление избытку энергии, и работа. Но что дальше? И может ли вообще так продолжаться? На этот вопрос он со всей решительностью ответил себе: нет! Если дела их торгового дома не могут заполнить жизнь, а заполнять ее дилетантством опасно, надо найти для нее другое содержание, иные обязанности, открыть для себя иной мир, новые горизонты. И путь к этому один: женитьба.
Раньше при слове «женитьба», «жена» в его воображении возникало некое безликое и безымянное существо, воплощающее все мыслимые физические и нравственные достоинства. Теперь оно обрело реальные приметы. У него были ясные голубые глаза, темные волосы, крупный рот, и звалось оно Марыня Плавицкая. Кроме нее, никто ему не был нужен, и представлял он ее себе настолько живо, что сердце начинало биться сильнее. Вместе с тем он прекрасно сознавал, что его чувство лишилось некой мечтательной надежды, жажды обладания и заодно боязни утраты – той робости, трепета, обожания, которые побуждают пасть к ногам любимой, когда чувственная любовь отступает перед поклонением и в отношение к женщине закрадывается нечто мистическое: мужчина ощущает себя возлюбленным и одновременно покорным ее рабом. Все это осталось позади. Теперь мысли его о Марыне были трезвы, даже дерзки. Он знал, что может прийти и взять ее, и если сделает это, так по двум причинам: во-первых, его влечет к ней, как ни к одной другой, а во-вторых, рассудок подсказывает жениться, причем именно на ней.
«Потому что на нее всецело можно положиться, – думал он. – Душа у нее не опустошена, не очерствела. Чувства не убиты эгоизмом, и с собой носиться она не станет. Это сама порядочность, сам долг во плоти – скорее уж о том придется заботиться, чтобы она себя не слишком забывала. Если я и разумом за нее, к чему искать другую, это было бы глупо».
И не бесчестно ли с его стороны бросить теперь Марыню» стал он спрашивать себя. Теперь, когда Литка их соединила. При одной мысли о том, чтобы пойти против ее воли, пренебречь жертвой столь дорогого ему существа, сердце у него падало. Но разве он уже не исполнял все-таки ее воли? В противном случае надо было бы вести себя совсем иначе. Не являться после смерти Литки к ним в дом, не встречаться с Марыней, руки ей не целовать, не поддаваться чувству и не заходить так далеко, что отступить теперь – значит оскорбить ее, предстать перед ней в постыдной роли человека, который сам не знает, чего хочет. Не слеп ведь он, чтобы не видеть: Марыня уже считает себя его невестой, и если не обеспокоена до сих пор его молчанием, так единственно потому, что приписывает это не оставившей еще их обоих скорби по Литке.
«Итак, все доводы рассудка в пользу женитьбы; инстинкт самосохранения, влечение, наконец, чувство порядочности. Так, стало быть?.. Так, стало быть, я бы последним олухом и прохвостом был, начни я опять колебаться, уходить от решения. Нет, нет, это дело решенное!»
Поланецкий вздохнул и стал прохаживаться. Под лампой лежало письмо Букацкого. Он взял его и наугад прочел:
«Тебя же заклинаю: не женись! Женишься – сын родится, будешь работать, чтобы оставить ему состояние, оставишь – он вырастет похожим на меня…»
– Так знай же, вертопрах: я женюсь! – сказал с вызовом Поланецкий. – Женюсь на Марыне Плавицкой, слышишь? И состояние наживу, а будет сын – постараюсь, чтобы не вырос декадентом, понял?
Он был доволен собой.
Тут взгляд его упал на портрет Литки, и им овладело волнение. Печаль и любовь к ней ожили в его сердце с новой силой. И он спросил вслух у девочки, как советуются с дорогими покойниками в важных случаях жизни:
– А ты доволен, котеночек?
Личико ее в овале березок, нарисованных Марыней, улыбалось ему с портрета, словно подтверждая: «Да, да, пан Стах!»
Глаза у Поланецкого наполнились слезами.
Перед тем как ложиться, он взял у слуги записку, которую велел отнести утром Марыне, и написал другую, еще сердечнее:
«Дорогая пани! Гонтовский по нелепейшему поводу учинил Машко скандал, из-за чего и вышла дуэль. Машко легко ранен. Противник там же, на месте, принес ему извинения. Никаких последствий иметь это не будет, если не считать того, что я еще раз убедился, какая вы добрая, отзывчивая, хорошая, и завтра с вашего позволения приду вас поблагодарить и поцеловать милые ваши, дорогие ручки. Буду после полудня – утром, прямо из конторы, придется зайти к Краславским, потом забегу к Васковскому попрощаться, хотя если б мог, предпочел бы начать день совсем, совсем не с них.
П о л а н е ц к и й».
Кончив, он глянул на часы и, хотя было уже одиннадцать, велел сегодня же отнести записку.
– Войди через кухню, – сказал он слуге, – и если барышня уже легла, оставь там.
И, отослав его, обратился в воображении к «барышне»: «Если ты не поймешь, зачем я завтра приду, значит, ты очень недогадлива».
Ранний визит Поланецкого очень удивил Краславскую, однако она приняла его, полагая, что он к ней неспроста. Поланецкий выложил все как есть, умолчав только о том, что могло повредить Машко: об угрожающем состоянии его дел.
Пожилая дама смотрела на него своими неподвижными, будто высеченными из камня, тускло-зелеными глазами, и ни один мускул в течение разговора не дрогнул на ее лице.
– Во всем этом непонятно мне только одно, – выслушав сказала она, – зачем понадобилось продавать дубраву? Ведь лес – это украшение усадьбы.
– Лес там – поодаль от дома, – ответил Поланецкий, – и затеняет поле, так что оно пустует, а Машко – человек практичный. Говоря по правде, мы с ним старые знакомцы, и сделал он это по дружбе. Я, как вы знаете, занимаюсь перекупкой, и мне понадобился дубовый лес, вот он и продал мне, сколько мог.
– Тогда почему же этот молодой человек…
– Вы знакомы с паном Ямишем? – перебил Поланецкий. – Он по соседству с Кшеменем и Ялбжиковом живет, спросите у него, он вам сам скажет, что этот молодой человек немножко того, все в округе это знают.
– В таком случае не следовало бы пану Машко его вызывать.
– Видите ли, – теряя терпение, возразил Поланецкий, – у нас, у мужчин, несколько иные понятия на этот счет.
– Разрешите, я с дочкой поговорю.
«Самый подходящий момент встать и откланяться», – подумал Поланецкий; однако он пришел, так сказать, на разведку и должен был для Машко что-то разузнать.
– Я как раз иду к пану Машко, и если вам угодно что-нибудь передать… – предложил он.