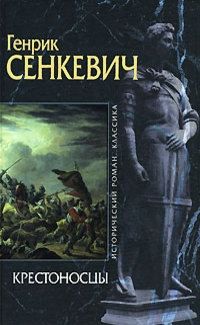– К сожалению, мне очень некогда. И поздно уже.
– Да. Смеркается. Ну тогда в двух словах… Я думаю – больше того: глубоко верю, – что славян ждет величайшая миссия… – Старик остановился, потирая лоб рукой. – Что за удивительное это число – три… Есть в нем какая-то тайна!
– Вы говорили о миссии славян, – нетерпеливо напомнил Поланецкий.
– Погоди, тут есть связь. Видишь ли, в Европе три племени: романское, германское и славянское. Первые два уже выполнили свое предназначение. И будущее принадлежит третьему.
– И что же должно оно совершить?
– Что там ни говори, но социальные отношения, закон, правила общежития и так называемая частная жизнь – все это опирается на христианское учение. Мы со своими пороками его искажаем, тем не менее все им держится. Но пройдена пока только половина, первая стадия!.. Некоторые считают, будто христианство исчерпало себя. Нет; оно лишь вступает в свою вторую стадию. Сейчас заветы евангельские блюдутся отдельными лицами и на историю не влияют, понимаешь? Ввести их в историю, положить в ее основу любовь к ближним, возвысить до степени отношений исторических – вот в чем миссия славян… Но они сами об этом еще не знают, и надо открыть им глаза.
Поланецкий молчал, не зная, что ответить.
– Вот над чем размышлял я долгие годы и что изложил в этом сочинении, – продолжал Васковский, указывая на рукопись. – Это труд всей моей жизни. Собственная моя высокая миссия.
«На которую пока гадят овсянки. И бог весть сколько еще будут гадить», – подумал Поланецкий. Вслух же сказал:
– И вы надеетесь, если труд этот напечатают?..
– Нет, я ни на что не надеюсь. Я – жалкий червь и умом своим не могу всего постигнуть, но я люблю своих ближних… Труд мой исчезнет, как камень, брошенный в воду, но он всколыхнет воду, и по ней пойдут круги. А потом, как знать, может, явится миру избранник… Чему быть, того не миновать. Не во власти нашей отказаться от возложенной на нас миссии, даже если самим этого захотеть… И не надо вообще отвлекать людей от их предназначения, стараться насильно его изменить. Что для других хорошо, для нас может быть плохо, коль скоро нам уготован совсем иной удел. Противиться, стало быть, – напрасный труд. И ты тоже напрасно внушаешь себе, будто хочешь только деньги делать, и ты тоже никуда не уйдешь от себя и своего предназначения.
– Я и не ухожу, я женюсь. Верней, собираюсь жениться, если отказа не получу.
Васковский обнял его за плечи.
– Ну и с богом! Вот это хорошо!.. Бог тебя благослови! Знаю, так вам наказала дорогая наша девочка… Помнишь, я же говорил: у нее тоже есть свое предназначенье и она не умрет, пока его не выполнит. Пошли ей господь вечное блаженство, а вам – свое благословенье… Марыня – золото!
– А вам желаю счастливого пути и благополучного завершения вашей миссии!
– А тебе… тебе – исполнения желаний.
– Желаний?.. Я, пожалуй, не прочь этак с полдюжины маленьких миссионеров народить! – весело сказал Поланецкий.
– Ах, плут! Все бы тебе шутить! – ответил Васковский. – Ну беги, я к вам еще загляну…
Выбежав, Поланецкий сел на извозчика и поехал к Плавицким. Дорогой он обдумывал, что скажет Марыне, и приготовил целую речь, в меру нежную и в меру здравую, как и пристало человеку солидному, который нашел себе избранницу по велению не только сердца, но также и ума.
Марыня, видно, не ждала его так рано – лампы в комнатах еще не были зажжены, хотя на небе догорали последние отблески заката.
При взгляде на Марыню вся умно составленная речь вылетела у Поланецкого из головы. Целуя ей руки, он только робко, взволнованно спросил:
– Вы получили письмо и цветы?
– Да…
– И догадались, зачем я?..
У Марыни сердце билось так сильно, что не давало говорить.
– Вы согласны исполнить Литкину волю? И стать моей женой? – запинаясь, спрашивал он.
– Да, – прозвучало в ответ.
Теперь уже Поланецкому не хватало слов, чтобы сказать, как он ей благодарен. Он только все крепче прижимал к губам ее руки и, не отпуская, привлекал ближе к себе. По жилам его вдруг пробежал огонь; он обнял ее и стал искать губами ее губы. Но она отвернулась, и он стал целовать ее в висок. В полутьме слышалось их прерывистое дыхание; наконец Марыня вырвалась из его объятий.
Спустя несколько минут горничная внесла зажженную лампу. Придя в себя, Поланецкий испугался собственной дерзости и с беспокойством взглянул на Марыню. Он был убежден, что оскорбил ее, и готов был просить прощения. Но, к радости своей, не заметил на ее лице никаких признаков гнева. Она потупилась, щеки ее пылали, прическа слегка растрепалась, все в ней выдавало смятение – она была точно в дурмане. Но то было сладостное смятение любящей женщины, которая понимает: жизнь ее вступила в новую полосу и требует от нее немалых жертв, но она идет на это по своей воле и желанию – любя, покоряется мужчине с полным сознанием его прав.
Поланецкий ощутил прилив нежности к ней. Ему показалось, он любит ее, как прежде, до смерти Литки. «Не нужно себя сдерживать, – подумал он, – стесняться своей доброты и нежности», – и снова почтительно поднес ее руку к губам.
– Знаю, что недостоин вас, это без слов ясно. Но, видит бог, все для вас сделаю, что в моих силах.
Марыня растроганно взглянула на него.
– Лишь бы вы были счастливы…
– Не быть с вами счастливым… невозможно. Я понял это еще в Кшемене. Но вы знаете сами, потом все расстроилось. Я думал, вы пойдете за Машко, и совсем истерзался!..
– Я сама в этом виновата, простите… милый Стах!
– Нет, недаром сегодня Васковский сказал: «Марыня – золото!» – с чувством воскликнул Поланецкий. – Это сущая правда. Все так говорят. И не просто золото – сокровище, драгоценный клад!
Ее добрые глаза заискрились смехом.
– Но не слишком ли тяжелый?..
– Не беспокойтесь, у меня достанет сил его нести… Вот теперь я знаю, ради чего жить.
– Я тоже… – отозвалась Марыня.
– Вам говорили, что я уже был сегодня у вас? Не застал и послал эти хризантемы. После вашего вчерашнего письма я сказал себе: это же просто ангел, надо бесчувственным чурбаном быть или безумцем, чтобы мешкать дольше.
– Я так встревожилась и огорчилась из-за этой дуэли. Скажите: правда, что все уже позади?
– Честное слово.
Марыне хотелось расспросить подробней, но вернулся Плавицкий: слышно было, как он покашливает в передней, ставит палку, снимает пальто. Открыв дверь, он увидел их вдвоем.
– Что это вы сидите тут рядком?
Марыня подбежала к отцу, обняла его за шею и подставила лоб для поцелуя.
– Как жених и невеста, папа!
– Что, что ты сказала? – отстранив ее, переспросил Плавицкий.
– Я сказала, – спокойно глядя ему в глаза, отвечала Марыня, – что пан Станислав сделал мне предложение, и я очень счастлива…
Подойдя к Плавицкому, Поланецкий крепко обнял его.
– С вашего, дядюшка, согласия и благословения…
С возгласом «Дитя мое!» Плавицкий неверным шагом отступил к кушетке и тяжело опустился на нее.
– Извините, – лепетал он, – это все волнение… Пустяки, не обращайте внимания… Дети мои… если вы нуждаетесь в моем благословении, от души вас благословляю.
И, благословляя их, разволновался еще пуще: Марыню он искренне любил. Голос его прерывался, и молодые люди разбирали лишь отдельные слова и обрывки фраз: «Какой-нибудь угол для меня… старику голову приклонить… который трудился всю жизнь… Сирота… Единственное дитя…»
Они наперебой его утешали и настолько в этом преуспели, что спустя полчаса старик хлопнул вдруг Поланецкого по плечу.
– Ах, разбойник! – сказал он. – Ты, стало быть, на Марыню виды имел, а я, грешным делом, думал, ты…
Остальное он договорил Поланецкому на ухо.
– Как вам такое могло в голову прийти! – воскликнул тот, покраснев. – Осмелься мне сказать это кто-нибудь другой…
– Но-но-но! – засмеялся Плавицкий. – Нет дыма без огня.
– У меня к вам просьба, – прощаясь в тот вечер с Поланецким, сказала Марыня. – Вы мне не откажете?
– Только прикажите.
– Я давно дала себе слово: если придет такой день, съездить вместе на могилу Литки.
– Ах, милая пани, – только и мог вымолвить Поланецкий.
– Что люди скажут, нам дела нет, ведь правда?
– Конечно! Неужто обращать внимание на пересуды? Спасибо вам от души, что подумали об этом. Милая моя пани… моя Марыня!
– Она, наверно, смотрит сейчас и молится за нас.
– Она – наша маленькая заступница.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
– До завтра.
– До завтра, – повторил он, целуя ей руки. – До завтра, до послезавтра и каждый день… до самой свадьбы! – прибавил он шепотом.
– До свадьбы! – ответила Марыня.
Поланецкий ушел, обуреваемый мыслями, чувствами, впечатлениями. Но в этой сумятице чувств главенствовало одно: значительность происшедшего. Главным было, что судьба его решена и с колебаниями, метаниями отныне покончено: надо начинать новую жизнь. И это ощущение не было неприятно, напротив, особенно упоительно было вспомнить, как он целовал Марыню в висок. При воспоминании об этом все недостававшее его чувству показалось бесконечно малым, ничтожным, и в голове мелькнуло: найдено все, что нужно для полного счастья. «Жизнь с ней не может быть в тягость!» – подумал он, и даже сама мысль об этом показалась ему кощунственной. Думал он и о Марыниной доброте, ее преданности, о том, что женщине с таким сердцем и характером можно целиком довериться, не опасаясь ничего, она не истерзает, не покалечит душу, сумеет по достоинству оценить все лучшее в нем, будет жить не для себя, а для него. И, раздумывая об этом, Поланецкий спрашивал себя: да разве можно найти жену лучше? И только дивился своим недавним сомнениям.