Возможно, что и от умирания природы Аничку охватывала грусть, когда она смотрела из окна кухни на поля, простирающиеся за розвалидовским огородом. Печь дышала теплом, и ощущать его было приятно, не то что летом, когда кухонная жара бывала неприятна, хотя все остальное было очень хорошо. По крайней мере весь месяц, когда хозяев не было… И потом… Аничке казалось, что и ее лето уходит с этим летним теплом, которого жалко, до слез жалко…
«Хоть бы открытку какую прислал», — думала она.
Аничка! Не жди открытку! А если и получишь ее, не придавай этому значения. Не задумывайся, а то у тебя пригорит заправка и рассердится твой хозяин, директор Розвалид, к которому ты опять вернулась — с тайной надеждой, что найдешь в Старом Месте милого пана доктора. Ты тогда не простилась с ним, и это грызет тебя теперь, как нечистая совесть. Ты уже не застала доктора. Он уехал. Его нет. Ты не взяла и минутки счастья, когда достаточно было только протянуть руку.
Твое счастье подхватил городской вихрь и унес его.
Ты надолго ушла из его мыслей — как та индийская королева, уплывшая на пароходе вверх по Дунаю, которую он должен был приветствовать краткой речью музыкой и розами.
Вы опять покупаете мясо у Толкоша. Ты ненавидишь этого доносчика, но он снова подумывает о том, что нарядится в праздничный костюм и пойдет делать тебе предложение…
Если победит свой «гонор».
Перевод Л. Васильевой.
Советник Петрович сидел в своем домашнем кабинете. Кабинетов, как и должностей, у него было несколько: на первом этаже, в адвокатской конторе, в банках и на предприятиях, где он состоял президентом, председателем, юрисконсультом или советником по делам.
А дома у Петровича был свой домашний кабинет, строго обставленная комната: кожаное кресло, письменный стол, шкаф с книгами в тисненных золотом переплетах, большой портрет собственной персоны, попугай Лулу, кресло-качалка, глубокое мягкое кресло с высокими подлокотниками, а в стене — тайничок для коньяка.
Из двенадцати лампочек хрустальной люстры горят только три. Все двенадцать зажигаются лишь в дни приема особо уважаемых гостей, к которым следует проявить максимум учтивости; шесть — при гостях менее важных, но заслуживающих внимания, в присутствии которых не приходится выдавливать из себя нечаянную радость; три лампочки горят, когда приходят беспокоить по пустякам неинтересные люди или когда хозяева одни. С какой стати устраивать иллюминацию? Главное — не наткнуться на мебель и друг на друга.
В просторном кабинете тихо. Большой портрет хозяина словно убрался в полутьму, — ну и правильно, раз дома сам хозяин, — и лишь поблескивает массивная золоченая рама. Попугай Лулу в своей проволочной клетке не кричит, как обычно. Он знает: если хозяин читает, язык надо держать за зубами, не то прикрикнут: «Цыц!», а не поможет — накроют клетку платком и — «Спокойной ночи!». А ему еще не хочется спать.
Тяжелые плотные шторы из желтого шелка опущены. На одной из них мечется светлый отблеск фонаря — на улице ветрено. Сюда не доносится стрекот мотоциклов и гудки автомобилей, не отвлекают от работы. Они звучат приглушенно, как далекое уханье совы.
И лишь потрескивает паркет, расправляя онемевшие члены после ухода хозяйки с дочерью на ритмику; с помощью упражнений они поддерживают гибкость тела и плавность движений. Вернутся они к ужину, часам к восьми.
Приятны домашний покой и тишина; в такие минуты Петрович всегда отдыхает душой и телом. Сознание, что дверь не откроется, что никто не постучит, не войдет, не потревожит, наполняло его трепетной радостью. Можно целиком отдаться своим мыслям и при этом принять любое положение: сесть, встать, пройтись по кабинету, наконец — улечься на ковер, снять пиджак; ни с кем не нужно разговаривать и — это надо было сразу сказать — можно хватить рюмашку — никто не увидит.
Сейчас Петрович занят делами края как представитель народа в краевом комитете, попросту говоря — как депутат, член этого самого комитета.
Титул «депутат края» самый его любимый. Даже обращение «президент» не так ласкало слух Петровича, хотя президентом его называли в банке «Урания» и на цементном заводе «Меркурий»; и в других местах он вправе был требовать, чтобы его величали президентом, — никто не возразил бы. Да что толку? Чего много, то не ценится. Если б на юбилейном спектакле в Национальном театре взять да крикнуть: «Пан президент!» — на оклик в публике многие оглянулись бы. Президентов нынче хоть пруд пруди. К слову сказать, если не считать президента края, — который, между прочим, работает рука об руку с Петровичем, — останется президент финансового управления, президент верховного суда и краевого суда, президенты в сенате, президент железных дорог, почт и еще не менее двадцати президентов банков, тридцать четыре президента всевозможных корпораций, президент Земледельческого совета, «Словацкого дома» в Праге, «Чешского дома» в Братиславе. «Автоклуба», «Аэроклуба», клуба Дунайской береговой охраны, общества «Аполло», Дунайского судоходства, президенты разных коопераций и палат. Гипертрофия, как и во всем. Понятно, что титул «президент» не может импонировать.
Если Петровича окликали «пан адвокат», он и не думал оборачиваться. Непопулярное занятие — адвокатура. Конечно, титул адвоката значится на табличке его квартиры, — но что поделаешь… Таблички имеют и фирмы, очищающие квартиры от насекомых или от самой немудреной мебели, как, например, это делают коллеги-юристы и в первую очередь налоговые чиновники… Уж лучше иметь дело с чертом, чем с этаким финагентом, нет, с ними у него ничего общего! Чистка квартир — занятие ниже его достоинства.
«Пан председатель!» — это уж и подавно тьфу. Во главе любого общества стоит председатель, есть он даже у филателистов — этих безвредных идиотов, как их обзывают. «Пан почетный член Центрально-северо-западно-средне-юго-восточно-словацкой электрокомпании»! Его даже передернуло.
Обращение же какого-нибудь простодушного провинциала «пан доктор!» Петрович воспринял бы как оскорбление, потому что на эту кличку отзываются все студенты{82}, приученные к тому угодливыми парикмахерами, кельнерами, продавцами и всякими торговыми агентами.
Лаконичное «пан» попахивает уголовщиной, словом, делами подсудными… Но — «пан депутат!». То ли дело — «пан депутат!». Особенно если опустить эпитет «земский» или «краевой». Тогда ведь нечаянно можно сойти и за депутата Национального собрания! Депутатов Национального собрания тоже, конечно, немало, но они рассеяны по стране и все скопом редко собираются на разные там торжества и сборища. Каждому хватает своих дел.
Ладно, отдадим, как говорится, богу богово, а налоги — управлению финансов и останемся с титулом, и хотя титулов этих не так уж много — они ничего не стоят, так наградим же ими всех подряд! От этого и нас не убудет, и чужого мы не возьмем…
Итак, пан депутат сидел за письменным столом и изучал повестку дня ближайшего заседания краевого комитета и всякие там дополнения, уточнения и приложения к ней…
Вначале он сидел, подперев голову руками и теребя уши пальцами; время от времени, оставив ухо в покое, он водил указательным пальцем по машинописным строчкам, чтобы пристальнее вникнуть в смысл. Иногда он выпускал и левое ухо и ощупывал внутренний карман пиджака, где помещалась милая фляжка с коньяком, которую он всегда носил с собой, а ночью клал под подушку. Волнуясь, Петрович отхлебывал из нее раз, два и три раза, порой делал и больше глотков — в зависимости от переживаний.
Вот и сейчас, забыв про уши, он вытянулся в кресле, вынул фляжку, отвинтил никелированную крышку, трижды громко глотнул, опять аккуратно завинтил и, причмокнув губами, опустил фляжку назад в карман.
Что же обеспокоило его?
Ах, это не стоило волнений больше, чем появление в комнате моли, — просто разбор его дел был отодвинут чуть ли не в самый конец.
Он стоял после культурных мероприятий, после вопросов здравоохранения, больниц, социального обеспечения и мелкого предпринимательства. И это повторяется уже в третий раз! Нет, пускай главный советник, доктор Гомлочко объяснит, чем продиктована его неприязнь к земледельцам, аграриям, почему они всегда оказываются в хвосте?! Гомлочко ведь и сам земледелец, точнее — винодел, и каждое лето деревенское солнышко опаляет его дочерна!..
Сгибом пальцев Петрович обтер губы и сел поглубже в кресло, чтобы положить ноги в белых гамашах на письменный стол.
Петрович больше всего любил, когда его величали «пан краевой депутат» или просто «пан депутат», а отдыхать любил вот эдак, задрав ноги; при этом поза его выражала блаженство, приятную непринужденность, довольство окружающим миром и жизнью. Воздев ноги горе́, ему легче было проникаться столь близкими его сердцу проблемами мелких крестьян.
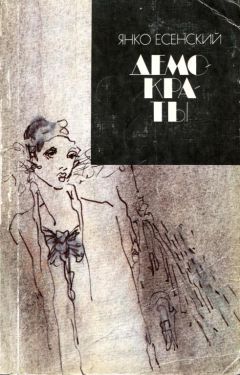

![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)


