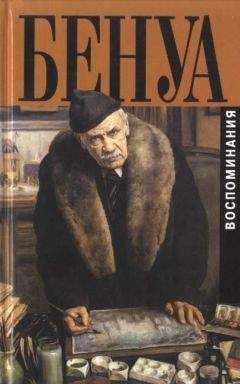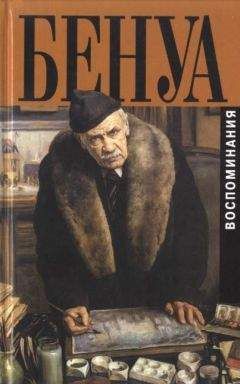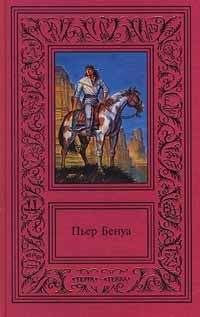Задачей моего отца в Версале было превратить архисвятые слова: «Балканский вопрос», «Рейнский вопрос», «Австрийский вопрос» в термины более человеческие и более простые. Можно было с уверенностью ожидать, что против всего, что принимало форму грануляции в воздухе, форму фибромы в организме, твердого ядра в государстве, — что против всего этого выступит присутствовавший при этом дядя, смотря по своей специальности. Но чернь с трудом прощает ту когорту, которая нападает с такой силой и такой простотой и на войну, и на золото.
Я решил в этот день отправиться на открытие памятника ученикам моего лицея, погибшим на войне. Я был совершенно свободен. Те свидания, которые все молодые люди назначают обыкновенно на пять или на шесть часов вечера (поэтому у молодых людей весь день поглощен думами об этом свидании), я назначал на семь часов утра. Моя подруга была свободной только на заре. Наслаждение, обычно испытываемое любовниками в городе, уже утомленном и пресыщенном, — это наслаждение к нам приходило в такой час, когда только мы, мы одни, моя подруга и я, отдавались любви в Париже. Я шел в нашу квартирку на антресолях одновременно с землекопами, отправлявшимися на работу, и билеты рабочего удешевленного тарифа на метро были действительны при поездке на эти свидания. Каждый вяз в сквере, каждый тополь во дворе, и Булонский лес и парк Монсо специально для нас в течение двенадцати часов приготовляли самый чистый воздух, каким когда-либо дышали в Париже, обнимая друг друга, двое влюбленных. Она, когда я встречал ее, не пахла еще никакими духами. Вскакивая с постели и открывая отягченные сном глаза, она совершала свой туалет для любви. Наша любовь требовала от каждого из нас одного: чтобы он видел восход солнца. Я шел по улицам, где просыпались одни молочники, где все квартиры, занятые психологами, промышленниками, актрисами, спали еще с закрытыми ставнями, точно склепы, охранявшие мертвых. Этот путь к возлюбленной, который ведет обыкновенно любовников через антикварные лавки с редкими драгоценностями или редкими книгами, я проделывал каждый день по улицам с закрытыми магазинами; каждый день у меня было воскресенье. Это был единственный час, когда в Париже слышишь звон колоколов, и солнце было единственным товаром, рассыпанным и блестевшим за стеклами выставочных окон: это была единственная одежда и единственная древность, выставленные на продажу. И я покупал все без всякой конкуренции. Эту силу первого часа, которую жокей тратит на то, чтобы об'ездить свою самую непокорную лошадь, дровосек на то, чтобы срубить самый толстый дуб, я, единственный счастливец во всем Париже, мог тратить на любовь. Я переходил через мост Согласия и достигал цели. Никому не приходилось переправляться через более короткий мост между последним из своих снов и своей подругой. Она выходила из метро на Елисейских полях, на станции, которая в этот час посещалась только избранными; станция была предоставлена почти исключительно каменщикам и штукатурам, и от них подруга иногда приносила на платье следы известки — единственный свой грим; я прощал ей то, что она позволяла труду прикасаться себе. Мы сжимали друг друга в об'ятиях не в атмосфере биржи, не в горячке повышения или понижения курса, не среди мелких новостей дня, уже разжеванных газетами «Temps» и «Intransigeant», но при первом блеске крупных известий, которые приносит утро: о землетрясении в Японии, революции в Бразилии или гибели броненосцев во время шторма. На один час к нам возвращалась ночь, созданная из всего, что могли предложить наиболее яркого заря и солнце. Мы еще ничего не ели; мы никого не видели; мы говорили только с людьми, которые больше, чем все чиновники Парижа и служащие муниципального совета, были настоящими слугами земли: садовниками и поливальщиками. Мы опускали занавеси, мы закрывали глаза, мы погружались всей нашей душой в эту ночь, которую мы выхватывали из прошлого… Било девять часов. Час расставания. Вместо того, чтобы растворяться в глупой суете вечера, во сне, в роскоши, любовь для нас расцветала среди живых рабочих существ, и весь наш день был полон ею. Мы были единственной человеческой четой в Париже, освобожденной от любовной тревоги и преисполненной блаженства любви. Мы испытывали моральную свободу в трамваях и ресторанах. Мы входили в эту деятельную и юную толпу, претворенную нашим об'ятием. Все молодые девушки с их портфелями, все ученики, спешащие в лицей, все казались нам плодом нашей любви. Мы породили и этих пожарных, и цветочницу, и согнувшегося велосипедиста.
Мы расставались. Она внезапно оставляла меня среди солнечного утра с целомудрием и скромностью молодой и нежной посредницы, отступая перед этим днем, как перед девушкой, которую она мне привела. Она не оборачивалась, она не хотела ничего видеть. Никогда женщина не понимала лучше роли женщины.
Никто не знал ее возлюбленного и никто не знал моей любовницы. Мы ускользали от всех взглядов, окутанные зарей…
Памятник погибшим лицеистам открывал Ребандар. Ребандар — адвокат, бывший министр общественых работ, вчерашний президент палаты, в течение последнего месяца занимал пост министра юстиции и преследовал своей ненавистью моего отца, который был вместе с ним уполномоченным при заключении Версальского договора. Но, не говоря даже об этой распре, я всегда страдал, едва начинал думать о Ребандаре. Я так часто слышал от него в его речах, что он олицетворяет Францию, так часто читал во всех газетах, что Ребандар был символом французов, что меня охватило сомнение относительно моей страны. Неужели моя страна была той нацией, в которой отзвук находили только голоса адвокатов? Адвокаты моей страны были теми людьми, лицо которых постоянно обращается к прошлому и которые не перестанут поворачивать свою голову назад, даже под угрозой обратиться в соляной столб, как жена Лота.
Область лицемерия, дурного настроения возрастала благодаря Ребандару во французских законодательных корпусах, в генеральных советах и даже в сердцах школьников.
Каждое воскресенье под одним из этих чугунных солдат, более мягких, чем он сам, открывая очередной памятник погибшим на войне, притворяясь, будто он верит, что убитые удалились просто для того, чтобы посовещаться о суммах, которые должны быть уплачены Германией, он изощрял свое красноречие на этих молчаливых судьях, к молчанию которых он взывал. Мертвые моей родины были распределены по спискам и препирались у входа в ад с убитыми немцами, — так, очевидно, представлялось Ребандару. Страшно было подумать, как Ребандар, который во время своего пребывания в министерстве общественных работ спускался в копи Анзена в разгар их эксплоатации и в копи в Лансе во время их ремонта и в копи Куррьера, залитые водой, как он представлял себе ад, вечный покой и переправу на лодке Харона в подземное царство теней.
Тогда от имени мертвых, собравшихся в эту минуту в подземном мире густым туманом или массивами теней или бесцветными ручейками, он произносил хвалу нашей ясности мышления, нашей системе счисления, нашей латыни крикливым голосом, заставлявшим пожалеть даже о речах радикала-социалиста, у которого самыми простыми выражениями являются слова «величественный» и «потрясенный». Когда солнце сияло, Ребандар (единственная уступка, которую весна или лето могли получить от него) пересыпал свою речь словами женского рода во множественном числе. Реальности, Вероятности, Директивы встречались тогда с тысячью нежностей и этот сафизм бюрократических отвлеченностей доставлял ему острое наслаждение. Прислонившись спиной к мраморной статуе Бартоломэ [9], к мрамору, более холодному, чем труп, Ребандар этой близостью поднимал свою температуру до высшего градуса; для него смерть всех этих французов была тем же, чем смерть его брата и смерть его собственного сына, несмотря на все перенесенное им страдание: спором о наследстве.
Война? Не каждый день можно найти подобное извинение для самого презренного из политических характеров. Но я помнил, что и до войны, и в речах его молодости тон Ребандара всегда был язвительный; когда он открывал в те времена выставки или памятники нашим великим людям, в его речах уже тогда слышался намек на требования по отношению к Европе, как будто Европа должна была заплатить нам репарации, потому что мы произвели на свет Пастера, мост Александра или Жанну д'Арк.
На дворе лицея торжественная церемония уже началась. Директор лицея в том самом черном, всегда казавшимся траурным, костюме, в который он облачался когда-то, принимая новых учеников в лицей или участвуя в каких-либо празднествах, снял покров с медной доски, где были выгравированы черным имена учеников, умерших за родину (гравирование золотом оставляли на соседних досках для имен получивших награду за диссертации). Кроме Шарля Пеги, Эмиля Клермона, Парго и нескольких учеников более старшего возраста, я знал всех товарищей, которые сегодня, размещенные в алфавитные ряды, отправлялись одновременно к забвению и к славе в том порядке, в каком обыкновенно ученики шли на конкурсные экзамены. Директор медленно читал эти имена; до сегодняшнего дня ему приходилось читать их, сопровождая отметкой за учение или за поведение. Он старался не произносить, как он делал во время чтения отметок этик учеников за их сочинения, последних имен со все возрастающим презрением. Он говорил себе, что это была единственная конкурсная работа за всю его жизнь, когда все ученики оказались первыми. Всего было сто один умерший ex aequo [10]. Директор, удивлялся, чувствуя, что его волнение при имени некоторых учеников вызывалось не воспоминанием о числе их наград или о полученных ими наказаниях, а воспоминаниями совершенно другого порядка, и он даже и не предполагал, что они сохранились у него: воспоминаниями о цвете глаз и волос учеников, о рисунке их губ. У всех этих мертвых он вдруг внезапно увидел (он, с таким презрением и равнодушием относившийся ко всему, что не касалось классных занятий) их индивидуальные человеческие черты: у того его нос, как у Роксоланы [11], у другого его заостренные уши или необычайный галстук, хорошо известный всему лицею (ученик носил его с тех пор, как перешел в четвертый философский класс) — вся эта трепещущая свежая плоть, эти темные или светлые волосы впервые появились для него на этих учениках, на этих призраках. Но он сумел взять себя в руки. К счастью, он принес с собою награды, которые не удалось распределить в июле 1914 года; он передал их привилегированным семьям, и иерархия мертвых восстановилась в нем понемногу в единственно приемлемом порядке: один из убитых получил восемь наград. Директор заметил, что большинство выданных в награду книг были подписаны живыми авторами. Он устыдился этого. Но мраморную доску с выгравированными на ней именами уже открыли, и я увидел наверху, начиная с буквы Д до буквы Е, тех, которые когда-то окружали меня на экзаменах, которые не могли меня защитить от храброго Линтелака или страшного Газье, но которые защитили меня от смерти. И тогда толпа матерей и отцов склонилась еще ниже, как перед особо почетным трупом: появился Ребандар. Не было ни эстрады, ни ступеньки. Он начал говорить, стоя просто на земле. Он говорил, по его словам, от имени этих юношей. И он лгал. Я хорошо знал, что каждый из этих мертвых думал и что каждый из них сказал бы теперь на этом месте. Я слышал последние слова нескольких из них, убитых рядом со мной. Я разделил с другими последнюю трапезу: хлеб, красное вино, колбасу, и это оказалось их последним причастием, их Тайной Вечерей. Я читал их последние письма, из которых каждое могло бы быть первым, могло быть началом долгой и сверкающей жизни. Я знал тех, кто убил нескольких врагов и отправился в царство теней, предшествуемый тенью улана или охотника-стрелка, знал тех, которые умерли девственными, и тех, для которых война была борьбой с теоретическим противником: они никогда не видели, не ощущали врага и умерли с чистыми руками в один из тех дней, когда теории сделались тяжелыми и смертельными, когда черепа и вены, казалось нам, разрывались не столько от взрывов гранат, сколько от давления судьбы.