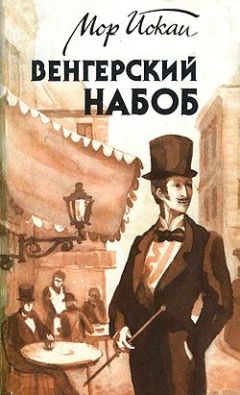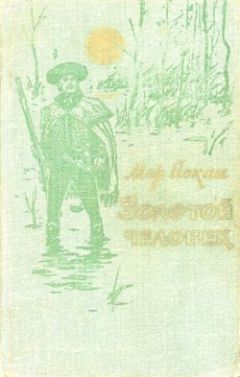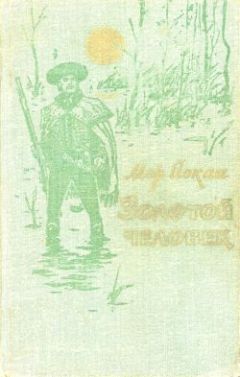– Ну, чего рот разинул? – прикрикнул он на Палко, стоящего у него за спиной. – Чего не идешь, стряпчего не зовешь?
– Да ладно уж кричать! – возразил старый гайдук. – Не побегу же я враз, когда отчеты эти у меня в голове, прах их побери.
– А, хорошо, что напомнил. Ты-то мне когда отчитаешься в тех ста форинтах, что в Дебрецен брал с собой? Ну-ка, почтеннейший, покажи, научился ли ты отчеты составлять.
– Это нам раз плюнуть, – с гусарской лаконичностью отозвался Пал, подкрутил столь же лихо усы, обдернул спереди доломан, воткнул кривой гребень поглубже в волосы, поправил подбородком шейный платок и, подтянув ременный пояс и обмахнув руками сапоги, крякнул трижды и сказал: – Получено от вашего высокоблагородия сто форинтов ассигнациями. Из каковых остался у меня в кармане петак,[202] прочее проедено и пропито. Summa summarum:[203] в точку сто форинтов. Барин Янчи за бока схватился.
– Ха-ха-ха! И ты, значит, как та депутация: «Туда, обратно – сто форинтов; еда, питье – сто форинтов; итого – триста получить».
– Значит, – был ответ.
– Ну, марш за стряпчим! Да скажи ему, перо захватил бы получше, писать придется, – то, что здесь, не для грамотного человека.
Через четверть часа привел Палко стряпчего.
Неизвестно, в каком уж болоте выудил барин Янчи примечательную сию личность, но остальным она очень под стать.
Физиономия у этого милого человека в точности беличья, только из-за антипатии к умыванию грязная до черноты. И все, от нечесаных, свалявшихся волос до стоптанных каблуков, вида соответственного. Засаленный, не стиранный много лет воротник, залоснившийся от проливаемых на него разного назначения жидкостей сюртук, неопределенного цвета жилет, застегнутый вдобавок не на ту пуговицу, а вперекос, благодаря чему нижняя проранка освобождается для пристежки панталон, весьма рационально восполняя отсутствие подтяжек. Шейный платок, когда-то, вероятно, белый, завязан сзади по распространенной одно время моде, хотя не парижской. Оба кармана до самых колен набиты всякой всячиной: носовыми платками, клубками бечевки, зимними перчатками, а пальцы такие, точно вместо пера стряпчий пятерню окунает в чернильницу.
И он тоже домашний шут барина Янчи. Другого никого ему и не надобно; зато их сбирает он со страстью особенной. А этот – уж самый что ни на есть sordidus;[204] его вытаскивают на свет божий, если, к примеру, припала охота кого-нибудь вместо сливянки касторкой для забавы угостить. Обычно же употребляется он для надобностей более прозаических: письма писать, инвентарные описи составлять да крестьян на сходах обжуливать. Его набоб величает просто «слушай, ты», – у него это ниже даже обыкновенного «тыканья».
– Слушай, ты! Подойди-ка. Ой, луком-то разит от него!.. Рот, рот хоть прикрой. Не говорил я, что ли, луку не есть? А то выгоню. И где только достает, ведь запрещено же у меня лук выращивать. Так слушай, я тебя вызвал письма срочные написать – да смотри не прохлопай, дважды не стану повторять. Напиши всем моим друзьям, с которыми были у нас в этот год хоть какие-нибудь нелады, и извести: в имеющий быть день рожденья желал бы я помириться. Значит, по порядку: Мишке Хорхи напишешь (intra parenthesim;[205] Михаем пиши его, Мишка он не для всякого), что в тяжбе из-за межи я ему уступаю и Бурьянный взлобок отдаю; пусть его. Лаци Ченке напиши (да не забудь «perillustris ас generosus»[206]его повеличать, но все-то по-латыни не пиши, не поймет, он синтаксис[207] только кончил), ему напиши, что жеребца, которого он давеча просил, а я не отдал, может приехать и забрать. Лёринцу Берки дай знать: во всем ему теперь верю – даже если пообещает не врать больше, и то поверю. Точно такими словами напиши. Фрици Калотаи… нет, этому не надо, раз он оказался способен мое приглашение переделать в заемное письмо; сам все равно заявится, хоть я и вышвырнул его полгода назад, как собаку. И напоследок Банди Кутьфальви: чтобы забыл и не поминал ту взбучку, которую Мишка-братец ему задал ото всех нас, пускай с ним помирится, а досаду на ком сорвать, я уж ему найду, не другого кого, так стряпчего моего, – понял, ты?
Тот кивнул.
– И тебе бы руку пожал, раз такое дело, не будь она у тебя вся чернильная, тьфу. Ступай вымой да опять приходи.
Стряпчий послушно вышел, попросил мыла и с полчаса скоблил, оттирал въевшуюся в кожу застарелую грязь. Воротясь, он застал барина Янчи неподвижно стоящим в оконной нише и глядящим во двор со сложенными за спиной руками.
Стряпчий остановился в ожидании. Добрых полчаса прошло, прежде чем набоб обернулся и тоном человека, прекрасно знающего, что его ждут, указал своему секретарю:
– Садись, ты. Пиши.
– «Милый мой племянник! – начал диктовать старик. В голосе его послышалась непривычная принужденность, которая всякого другого на месте стряпчего, наверно, удивила бы. – Коль скоро вы, дорогой племянник, сейчас в Венгрии, а я не хочу тень бросить на имя Карпати, то, прощая сегодня всем моим обидчикам, я и вам в знак примиренья по-родственному протягиваю руку в надежде, что не оттолкнете, и сверх того шлю двести тысяч форинтов, кои вы ежегодно будете от меня получать, покуда я жив. И еще надеюсь, что впредь мы станем добрыми друзьями».
Глаза старика даже увлажнились под действием этих строк, и будь возле собеседник посерьезней, могла бы и совсем чувствительная сцена разыграться.
– Запечатай да надпиши: его превосходительству господину Беле Карпати в Пожонь. Пусть нарочный ему доставит в собственные руки.
И вздох облегчения вырвался у него, словно двести тысяч камней отвалилось от сердца с этими двумястами тысячами форинтов. Счастливее его не было, наверно, в эту минуту.
Как на эту благородную готовность простить отозвался Абеллино, мы вскоре увидим.
В день своего святого барин Янчи все никак не мог дождаться утра. Радостное волнение не давало ему покоя, как ребенку, которого обещали свозить на какое-нибудь заманчивое увеселение. Рано, еще до света, разбудили его повизгиванье легавых и стук колес во дворе. Это охотники приехали из лесу со свежей дичью. Ветвистые оленьи рога высовывались сквозь боковины длинных повозок; двое на жерди, положенной на плечи, несли фазанов и жирных рябчиков. Вышедший в белом своем наряде повар с довольным видом щупал упитанную дичину. Барин Янчи выглянул через жалюзи во двор. Заря только занималась. Небо на востоке разгоралось багряно-розовым, карминно-шафранным пламенем, но вокруг все еще было объято тишиной; по лугам сказочным морем разлился серебристый туман.
Было хорошо слышно, как снуют по двору люди, идут приготовления, которые затевались лишь раз в году; из сада, из парка доносился глухой стук: везде что-то делалось к празднику. Скоро придут крепостные, служащие поздравить барина, потом долгожданные гости: знакомые, дальние и близкие родичи, может, и сам Бела… Мысли его постоянно возвращались к племяннику. Влюбленный юноша не поджидает милую с такой слепой верой. Старику хотелось думать, что племянник примет протянутую руку, и хотя посланное письмо едва ли успело дойти, какой-то внутренний голос твердил: Бела, единственный его кровный родственник и будущий наследник, не сегодня завтра – последний представитель именитого рода, еще этим вечером будет у него. Как-то сложится встреча? Как примирятся они? Что скажут друг другу?
Он прилег вздремнуть еще немножко: предутренний сон особенно сладок, и во сне опять разговаривал с Белой, с ним сидел за столом, бокал подымал за дружбу. Солнце уже стояло высоко, когда Пал растолкал старика, крича ему в самое ухо:
– Вставайте же, ну! Вот сапоги!
С живостью человека, чьи мысли мигом вернулись к радостям и заботам предстоящего дня, вскочил барин Янчи с постели. В назначенный час ведь и сам просыпаешься, если очень ждешь чего-то.
– Пришел уже кто? – было его первым вопросом.
– Всякого сброду понашло, – со своей колокольни оценивая происходящее, отозвался гайдук.
– Мишка Киш здесь? – полюбопытствовал барин, натягивая сапоги.
– Он-то первый заявился. С двух часов тут околачивается. Сразу видно: звание дворянское у него не от папеньки.
– А еще кто?
– Хорхи Мишка. Тому в воротах в голову стукнуло, что кисет в Сабадке в харчевне забыл; не ссади я его силой, назад бы поехал.
– Вот балда. А кто еще?
– Благородного чина-звания все, почитай, здесь, голубчики. И Фрици Калотаи тоже, в собственной телеге прикатил. Где он только ее украл, вот что интересно.
– Ох и бес ты, Палко. А больше никого?
– Никого? Как это никого? Да всех не перечтешь, голова у меня – не требник. Ужо сами увидите, еще и надоесть успеют.
За разговором этим комнатный гайдук одевал барина, тщательно разглаживая, расправляя на нем каждую складочку.
– Ну, а какого-нибудь необычного гостя, который не очень-то бывал у меня, такого нет?